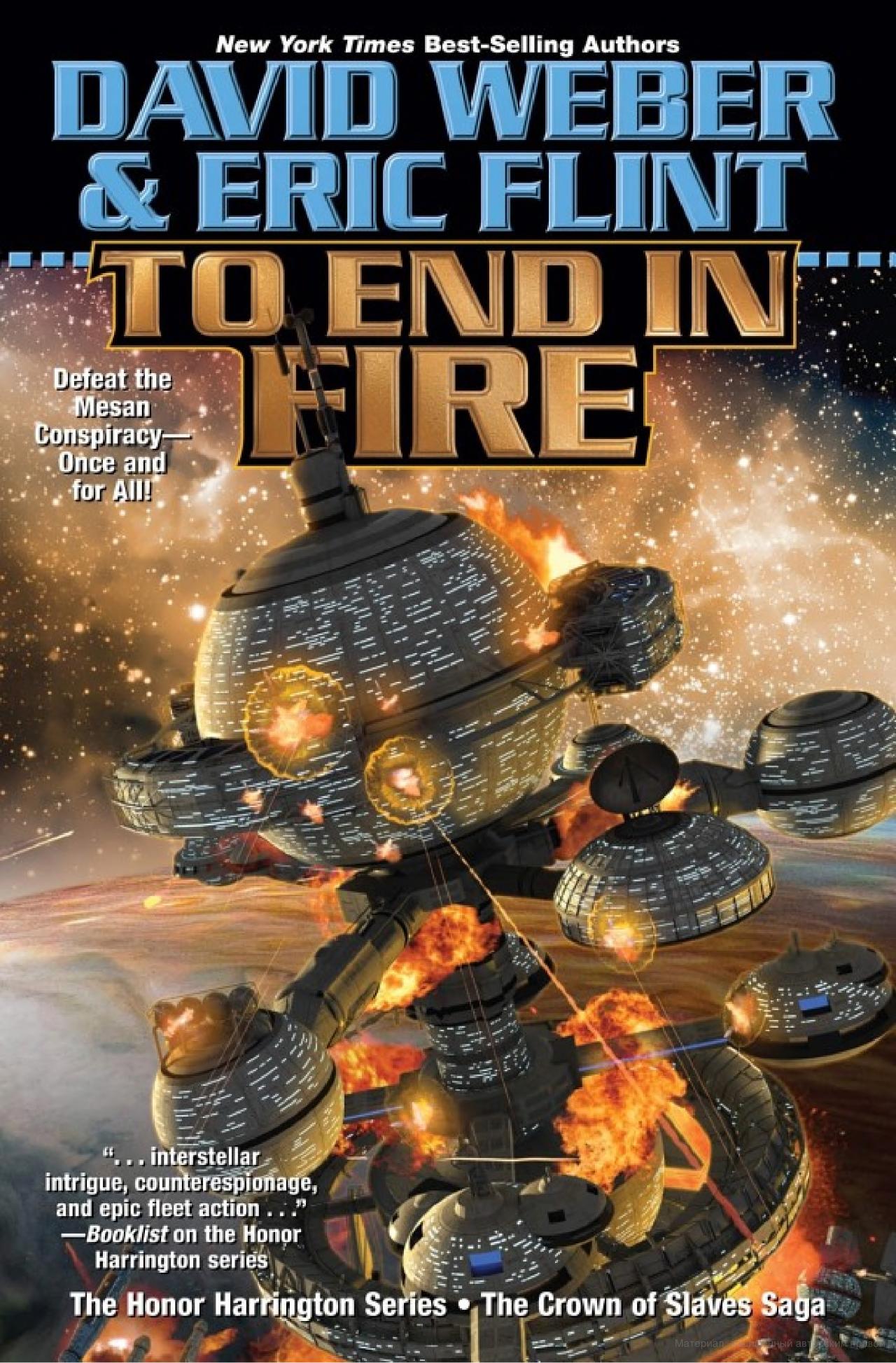Шрифт:
Закладка:
«Русская печь» – это повесть о деревенском детстве в годы Великой Отечественной войны, о том, как подростки становились взрослыми, неся ответственность за судьбу своих родных и родины. Это книга о любви и дружбе, о верности и предательстве, о труде и подвиге, о жизни и смерти. Автор, Владимир Арсентьевич Ситников, рассказывает о своих воспоминаниях из детства, о своей первой любви и о своем отце, который погиб на фронте. Он показывает, как жили и чувствовали люди в те страшные годы, как они сохраняли человечность и надежду в условиях войны и голода. Он также не умалчивает о тех, кто пытался нажиться на чужом горе или предавать своих соседей. Повесть «Русская печь» была написана 50 лет назад и опубликована в журнале «Юность» в 1972 году. С тех пор она переиздавалась много раз и всегда вызывала интерес у читателей разных поколений. Это одно из лучших произведений современной русской литературы, которое заслуживает вашего внимания. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com