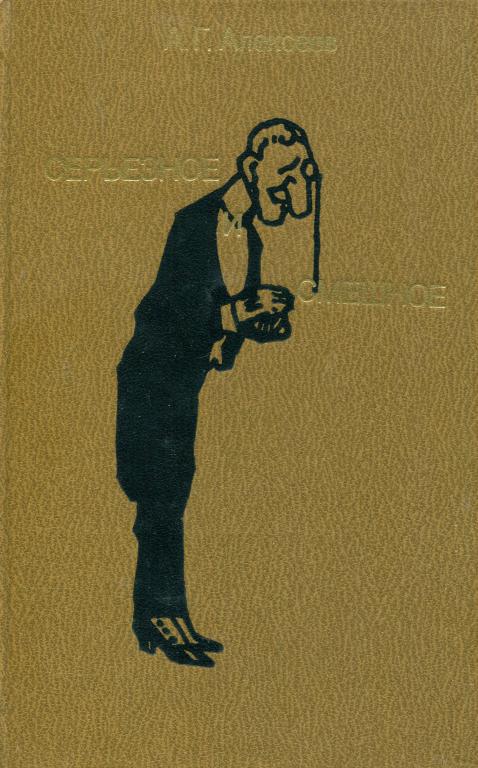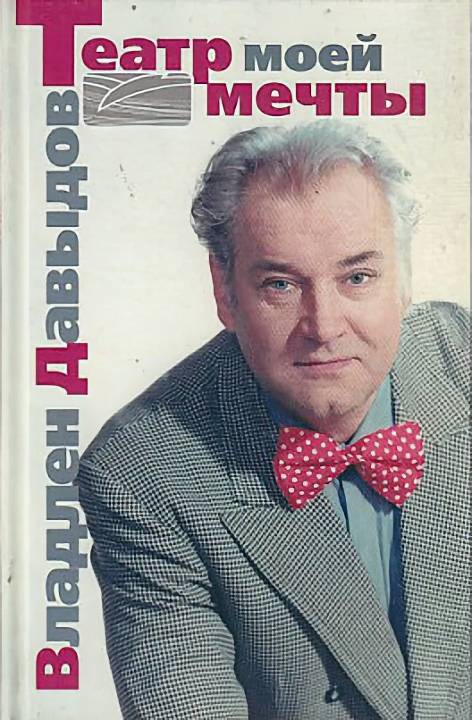Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Один из старейших деятелей русской и советской эстрады — конферансье А. Г. Алексеев — рассказывает о становлении и развитии советского эстрадного искусства, в частности, жанра конферанса. Автор делится воспоминаниями о многих выдающихся деятелях театра и эстрады, с которыми ему довелось встретиться в разные годы жизни. В книге даются и практические советы тем, кто решил посвятить себя нелегкой профессии конферансье.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Григорьевич Алексеев»: