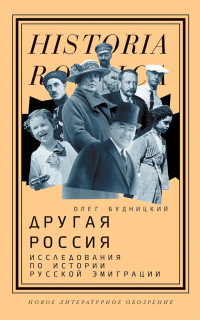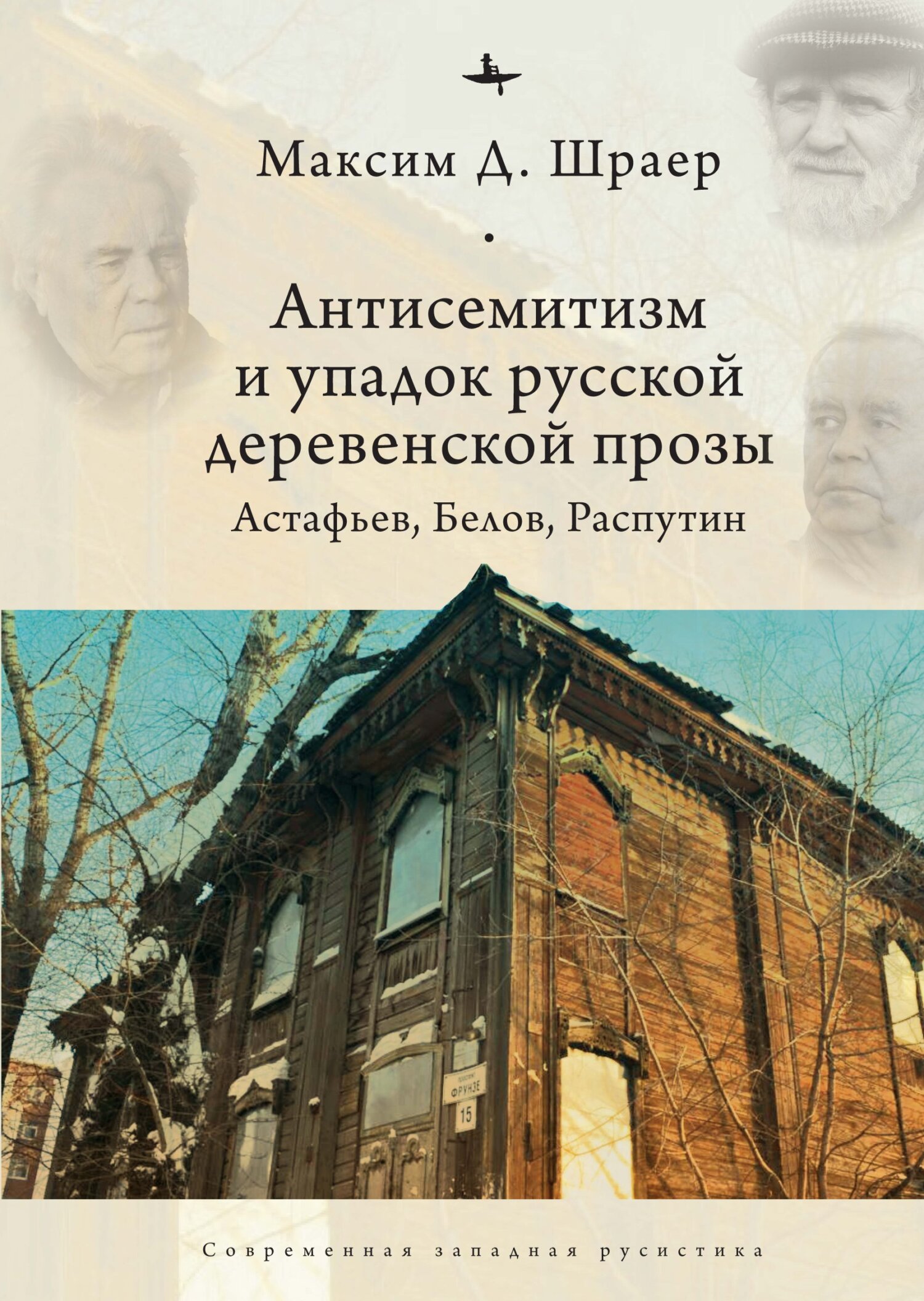Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга филолога-слависта Светланы Шнитман-МакМиллин написана в трех жанрах. Повествование о яркой и насыщенной биографии писателя, диссидента и правозащитника Георгия Владимова тесно связано с исследованием его литературных произведений и личным свидетельством – рассказом о дружбе автора с Владимовым.Так вырисовывается портрет одного из наиболее важных прозаиков второй половины XX века и человека, чье гражданское мужество вызывает глубокое восхищение.Текст приводится в авторской редакции.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Светлана Шнитман-МакМиллин»: