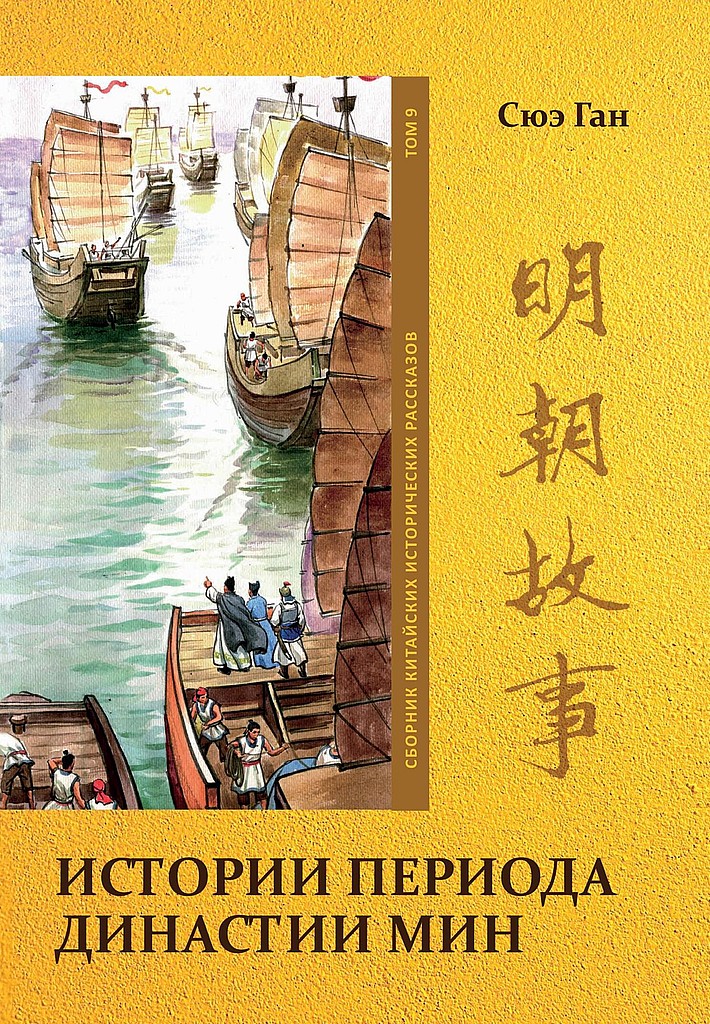Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ты должен убить для того, чтобы его, а не твоя горевала мать! Пусть его напрасно ждут, а не тебя! Пусть его хоронят в безымянной могиле, а не тебя! Пусть он умрет нецелованным мальчишкой, а не ты! Пусть его овдовеет жена, а не твоя! Пусть его дети растут без отца, а не твои! Пусть он умрет, не оставив потомства, а не ты! Забери у них самое святое, чтобы твоя святыня устояла! Помни, никто не спасет тебя, если ты себя не спасешь, и никто не убьет, если ты не убьешь!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Филантроп»: