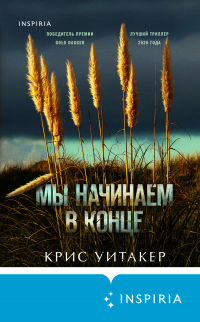Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Как убежать от прошлого, если жизнь – это замкнутый круг?Тридцать лет назад Винсент Кинг стал убийцей. Отсидев весь срок, он возвращается в родной городок на побережье Калифорнии, где далеко не все рады видеть его снова. Например, Стар Рэдли – бывшая девушка Винсента и… родная сестра той, кого он убил.Тридцать лет назад шериф Уокер был лучшим другом Винсента Кинга. Он так и не смог избавиться от всепоглощающего чувства вины. Ведь именно из-за его показаний Винсент на несколько десятков лет угодил в тюрьму.Тридцать лет назад Дачесс Рэдли еще не родилась. Ей всего тринадцать, а она уже считает себя «вне закона». Правила придуманы для других – не для нее. Только она способна позаботиться о маленьком братике и беспутной матери, которую Дачесс, несмотря ни на что, яростно защищает.И теперь эта ярость запускает цепь событий, обернувшихся трагедией не только для ее семьи, но и для всего города…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Крис Уитакер»: