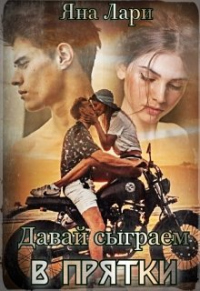Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Между Аней и Лерой, новенькой в классе, возникает дружба, а вместе с ней – целое выдуманное королевство, в которое девочки стремятся сбежать от озлобленных одноклассников и странностей своих родителей: одна растет с матерью-сектанткой, другая – с фанатичным отцом-коммунистом. Взросление испытывает дружбу на прочность, а детские фантазии и ритуалы постепенно становятся все более странными и жестокими и все сильнее вторгаются в реальность…Автор – лауреат премии «Рукопись года – 2021».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анастасия Владимировна Демишкевич»: