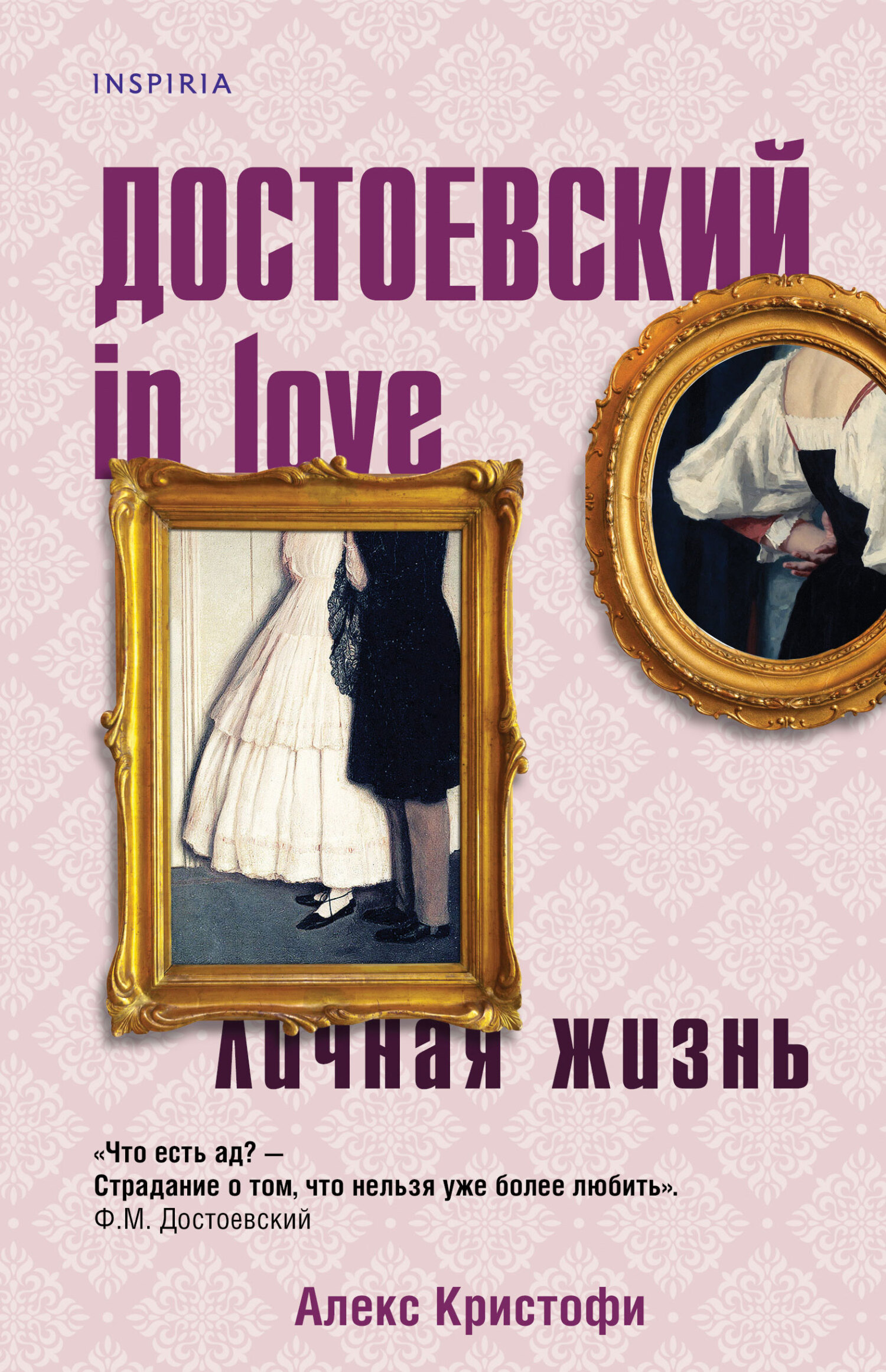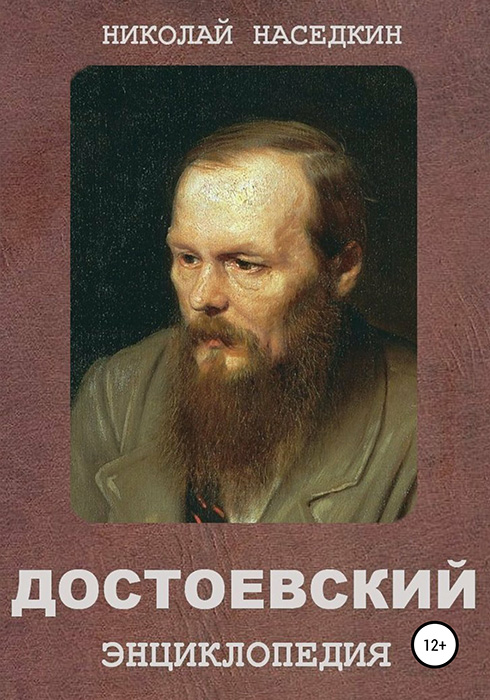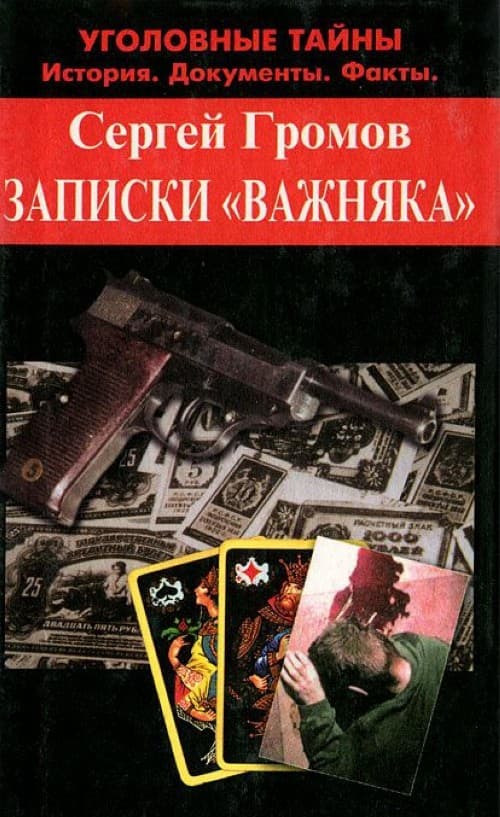Шрифт:
Закладка:
К 200-летнему юбилею Достоевского!Жизнь Достоевского была блестяща и жестока. Приговоренный к смертной казни как революционер, он избежал расстрела, пережил сибирскую ссылку и был принят в ближайшее окружение царя. У него было три великих любовных романа, каждый из которых омрачался изнурительной эпилепсией и пристрастием к азартным играм. Но в это время писались рассказы, публицистические произведения и романы, такие как «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы», признанные мировым достоянием и бесспорными шедеврами.В «Достоевский in love» Алекс Кристофи сплел в единое целое тщательно подобранные отрывки из произведений автора и исторический контекст. В результате получился роман, который погружает читателя в грандиозную перспективу мира Достоевского: от сибирского лагеря до игорных залов Европы, от сырых тюремных камер царской крепости до изысканных салонов Санкт-Петербурга. Также Кристофи рассказал истории трех женщин, чьи жизни были так тесно переплетены с жизнью писателя: чахоточной вдовы Марии, порывистой Полины, имевшей видения об убийстве царя, и верной стенографистки Анны, которая так много сделала для сохранения его литературного наследия.Кристофи создал мемуары, которые мог бы написать Достоевский, если бы не вмешались жизнь и литературная слава. Он дает новый портрет художника, который, возможно, был нам раньше не знаком: застенчивый, но преданный, любящий, чуткий друг народа, верный брат и друг, а также писатель, способный проникнуть в глубины человеческой души.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.