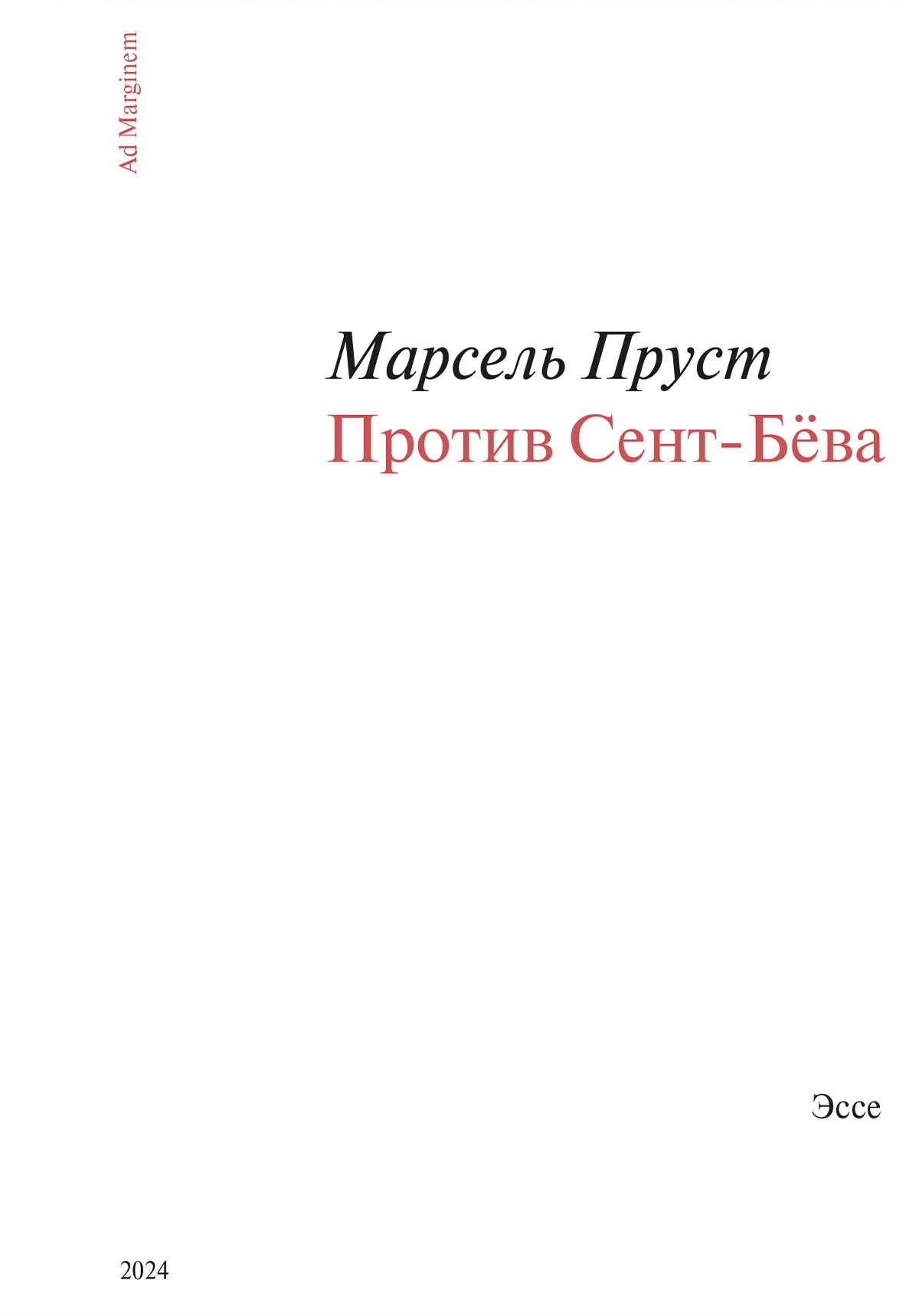Шрифт:
Закладка:
«Против Сент-Бёва» – сборник критических статей и эссе Марселя Пруста (1871—1922). Пруст вступает в спор с известным литературным критиком Шарлем Огюстеном де Сент-Бёвом (1804—1869), основоположником биографического метода в литературоведении. В своих суждениях Сент-Бёв опирается прежде всего на личное знакомство с писателями, тогда как Пруст верит, что произведение создает сокровенное, глубинное «я» человека, отдельное от его публичной персоны. О писателях нужно судить по их книгам, а не о книгах – по их авторам. Ведя мысленный спор с покойным критиком, Пруст разбирает стихи Шарля Бодлера и Жерара де Нерваля, романы Гюстава Флобера и Оноре де Бальзака, Толстого и Достоевского, картины Гюстава Моро, Антуана Ватто и Клода Моне. Но «Против Сент-Бева» – это не набор сухих теоретических эссе, а живое литературное повествование, в котором герой-рассказчик и горячо любимая им мама обмениваются впечатлениями. На страницах книги Пруст-критик превращается в Пруста-писателя, а из статей рождается «В поисках утраченного времени».