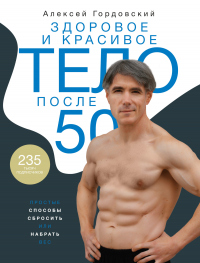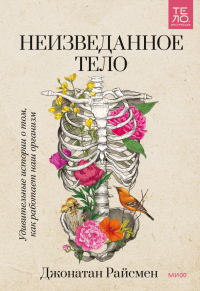Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Через пятьдесят лет после первого контакта с древней теократической цивилизацией ӧссеан земляне безуспешно пытаются смириться с их менталитетом, ради невероятных мицелиальных технологий закрывая глаза на кровавые жертвоприношения, грибные споры, проникающие в вены, и ритуальные снадобья, способные полностью сломить человеческую волю. Ӧссенский религиозный фанатизм, их обычаи, язык, культура постепенно изменяют земное общество. Лукас Хильдебрант, долгое время бывший послом на Ӧссе, понимает, что вскоре процесс станет необратимым, и Земля полностью утеряет свою независимость. Он ищет силу, способную противостоять власти инопланетян, и находит ее, но у той есть свои планы. И плата за них будет очень жестокой. Пять священных веществ. Пять уровней на дороге к Озарению – самому прекрасному и самому страшному, что принесла цивилизация ӧссеан на планеты людей. Гӧмершаӱл, по-терронски называемый Янтарные глаза, проломит барьеры сознания. Лаёгӱр, Лед под кожей, сосредоточит мысли на далекой цели. Ӧкрё, Падение в темноту, уничтожит пламенем все, что было; а янтрӱн, Ви́дение, откроет дверь в новый мир и новую реальность. И, наконец, к душе взовет рӓвё, Голоса и звезды – и объединит хаос сомнений в единое и единственное целое, в Космический круг Совершенного Бытия. Такова вера ӧссеан. Однако существуют и другие. Люди, как Лукас Хильдебрандт, которые хоть и понимают, чего от них хотят, но все равно ни за что не сделают этого как положено. Космический круг Совершенного Бытия они принципиально называют Комическим духом Откровенного Нытья; а вместо того, чтобы идти навстречу Богу, упорно бредут в обратном направлении. Для них это самый настоящий ад. Или, как минимум, борьба за жизнь. Пять уровней неволи, зависимости, безумия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вилма Кадлечкова»: