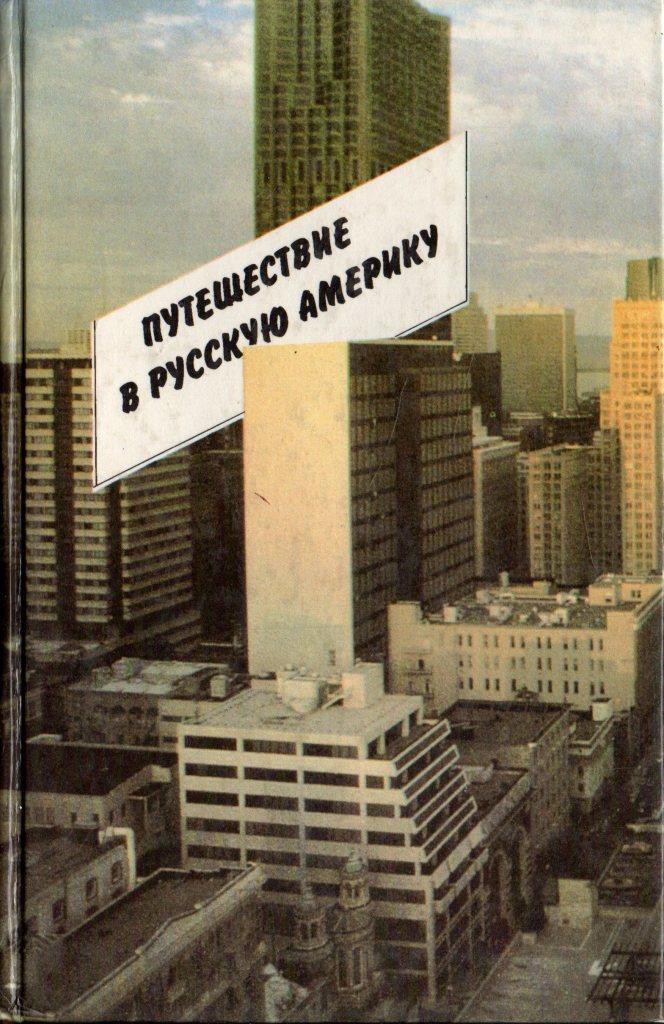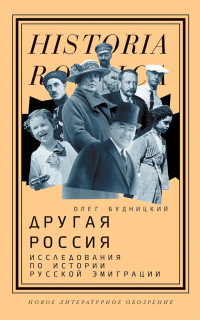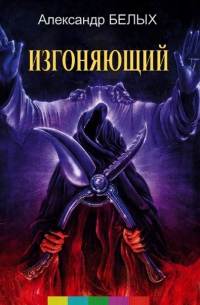Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Новая книга Галины Башкировой и Геннадия Васильева поможет читателю живо увидеть малоизвестный для нас мир русских (как называют на Западе всех выходцев не только из России, но из всего СССР) эмигрантов разных лет в Америке, познакомиться с яркими его представителями — и знаменитыми, как Нобелевский лауреат, экономист с мировым именем Василий Васильевич Леонтьев или художник Михаил Шемякин, и менее известными, но по-человечески чрезвычайно интересными нашими современниками.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Галина Борисовна Башкирова»: