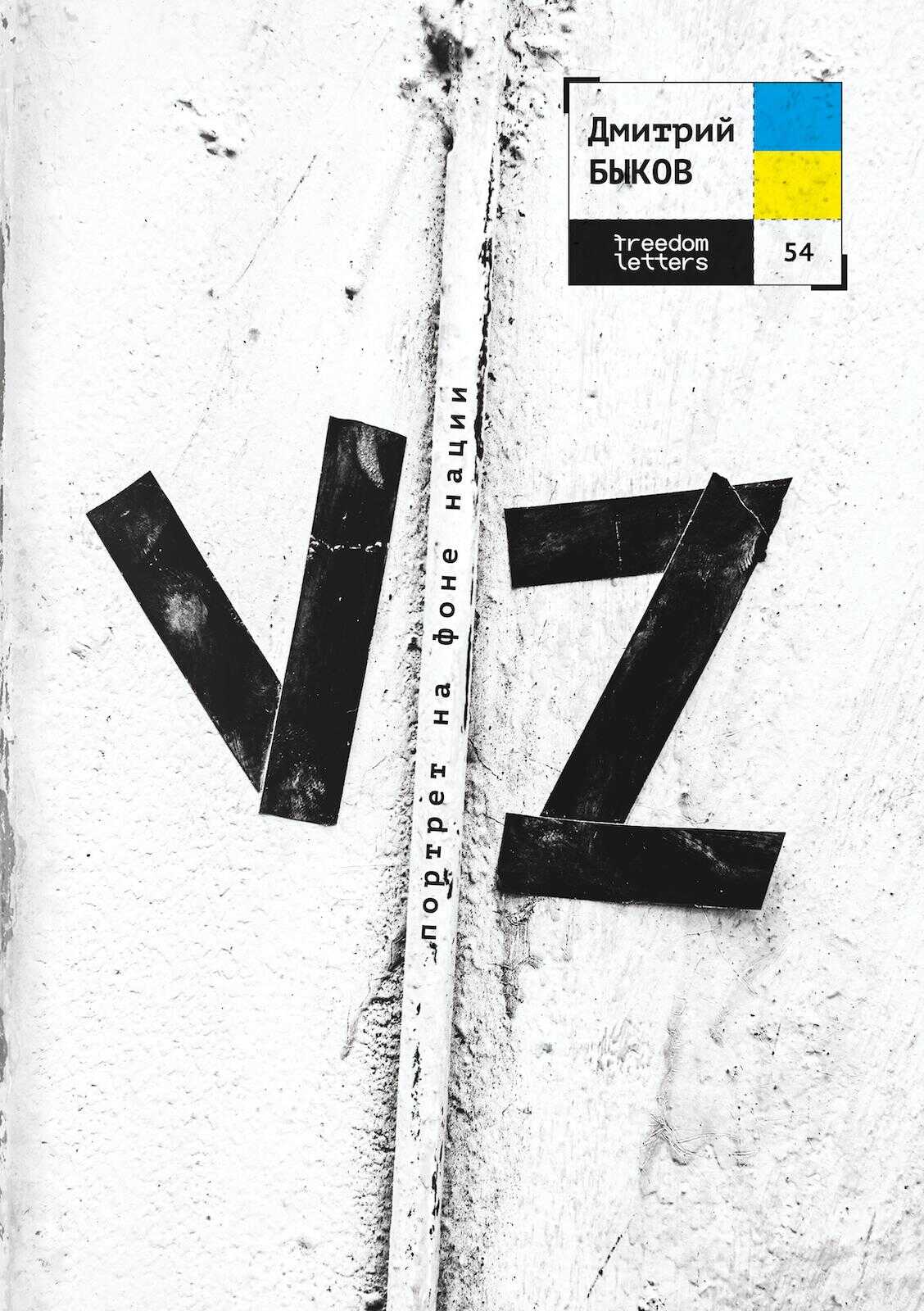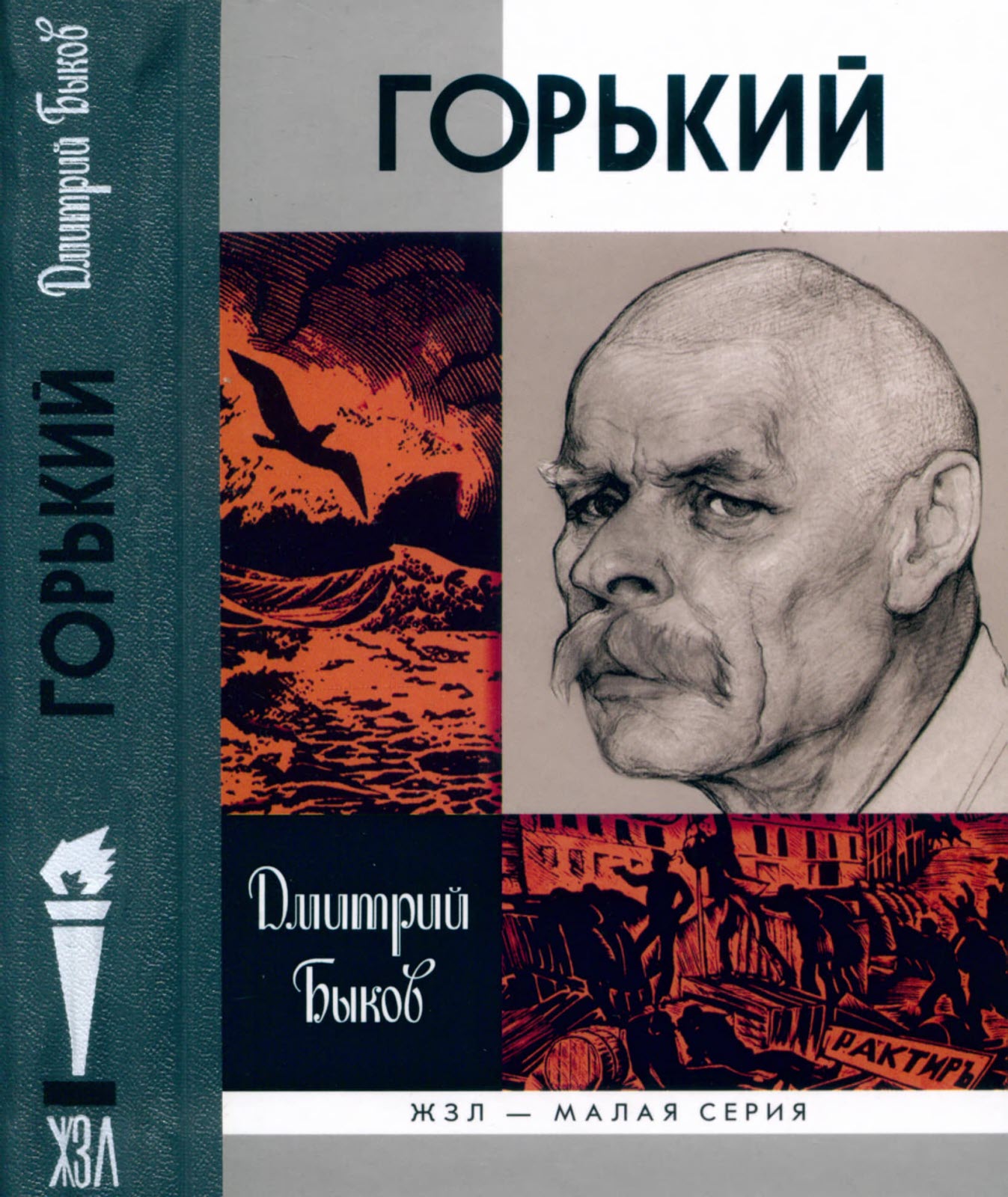Шрифт:
Закладка:
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БЫКОВЫМ ДМИТРИЕМ ЛЬВОВИЧЕМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РЕЕСТРЕ ИНОСТРАННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 29.07.2022.В Лектории "Прямая речь" каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Вот уже много лег визитная карточка "Прямой речи" – лекции Дмитрия Быкова по литературе Теперь они есть и в формате книги.Великие пары – Блок и Любовь Менделеева, Ахматова и Гумилев, Цветаева и Эфрон, Бунин и Вера Муромцева, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская, Андрей Белый и Ася Тургенева, Нина Берберова и Ходасевич, Бонни и Клайд, Элем Климов и Лариса Шепитько, Бернард Шоу и Патрик Кэмпбелл…"В этой книге собраны истории пар, ставших символом творческого сотрудничества, взаимного мучительства или духовной близости. Не все они имели отношение к искусству, но все стали героями выдающихся произведений. Каждая вписала уникальную главу во всемирную грамматику любви, которую человечество продолжает дополнять и перечитыватm" (Дмитрий Быков)В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.