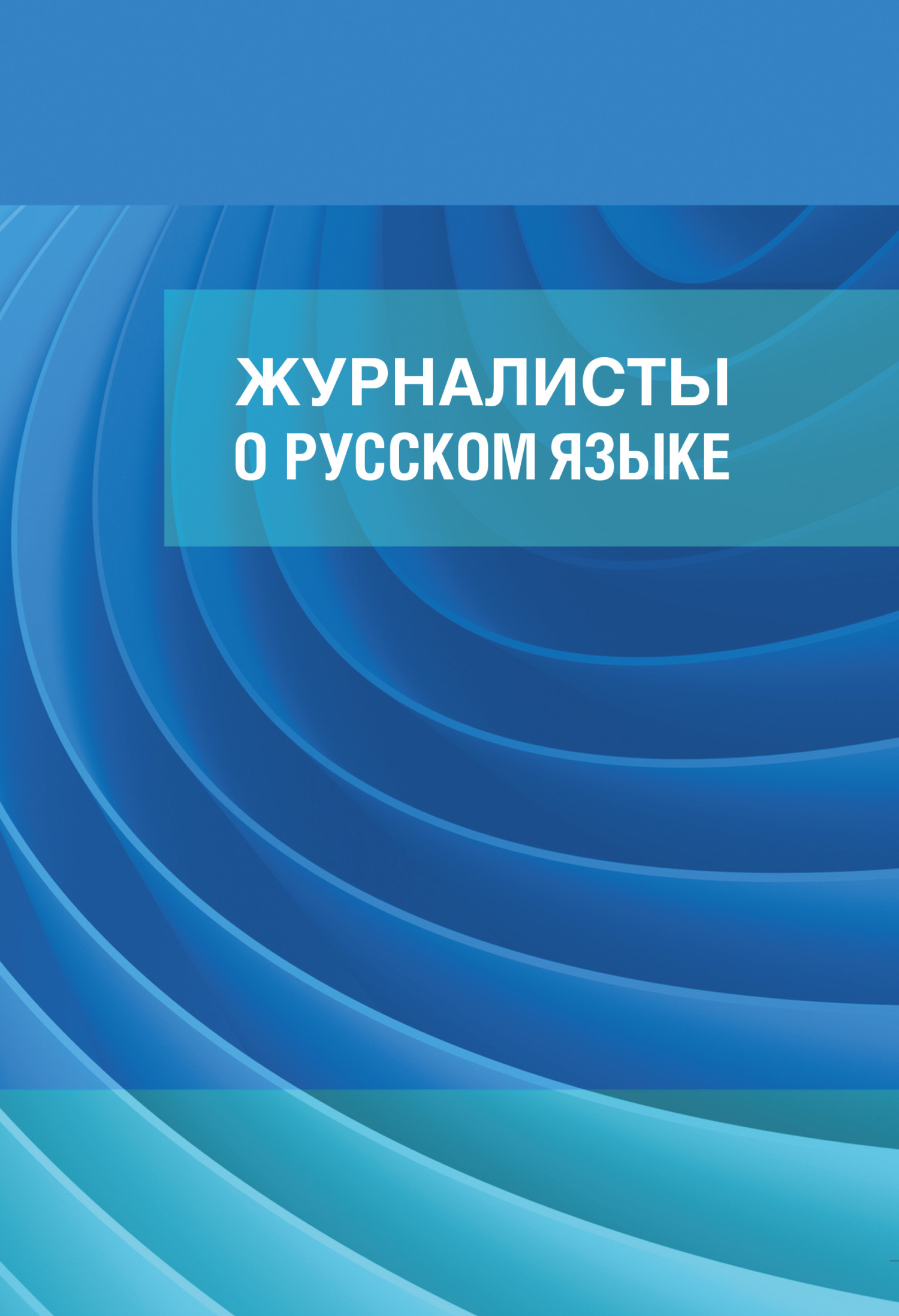Шрифт:
Закладка:
«Мандала» — это роман о двух друзьях, которые по-разному пытаются найти смысл жизни в буддизме. Один из них, Чхве Чхольмён, становится монахом и посвящает себя медитации и изучению священных текстов. Другой, Пак Нохё, остается в мирской жизни и занимается социальной деятельностью, помогая бедным и угнетенным. Оба они сталкиваются с трудностями и разочарованиями, соблазнами и искушениями, любовью и ненавистью. Оба они ищут ответы на вечные вопросы: кто я? зачем я живу? что такое счастье? что такое правда?
«Мандала» — это не только повествование о жизни двух героев, но и широкая панорама корейского общества XX века, его истории, культуры, традиций и противоречий. Автор Сондон Ким, сам будучи бывшим монахом, показывает как положительные, так и отрицательные стороны буддийского монашества, его вклад в развитие духовности и науки, а также его деградацию и коррупцию. Автор также затрагивает темы национализма, колониализма, войны, демократии, социализма и глобализации, которые оказали влияние на судьбу Кореи и ее народа.
«Мандала» — это глубокий и мудрый роман, который заставляет задуматься о смысле человеческого существования и о путях к освобождению от страданий. Это роман, который открывает перед читателем богатство и красоту буддийской философии и практики. Это роман, который учит ценить жизнь и любовь, дружбу и верность, милосердие и сострадание.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Познакомьтесь с удивительным миром «Мандалы» и узнайте, как сложилась жизнь ее героев.