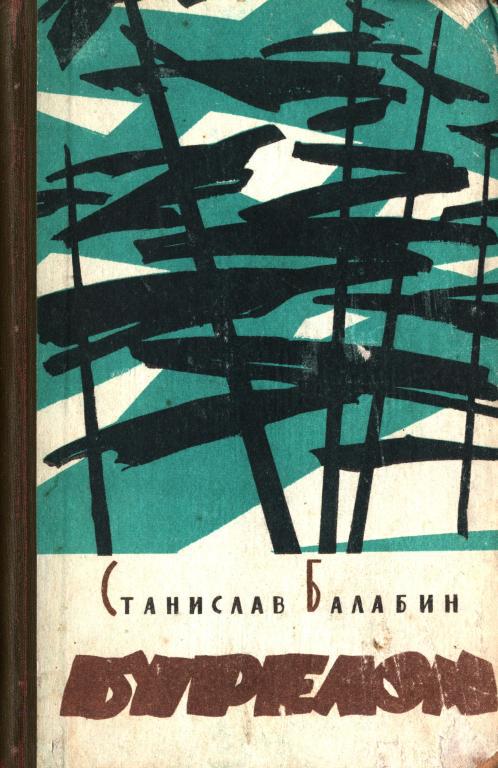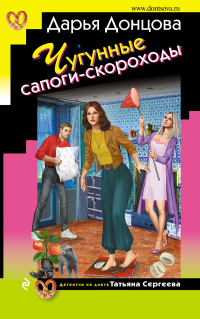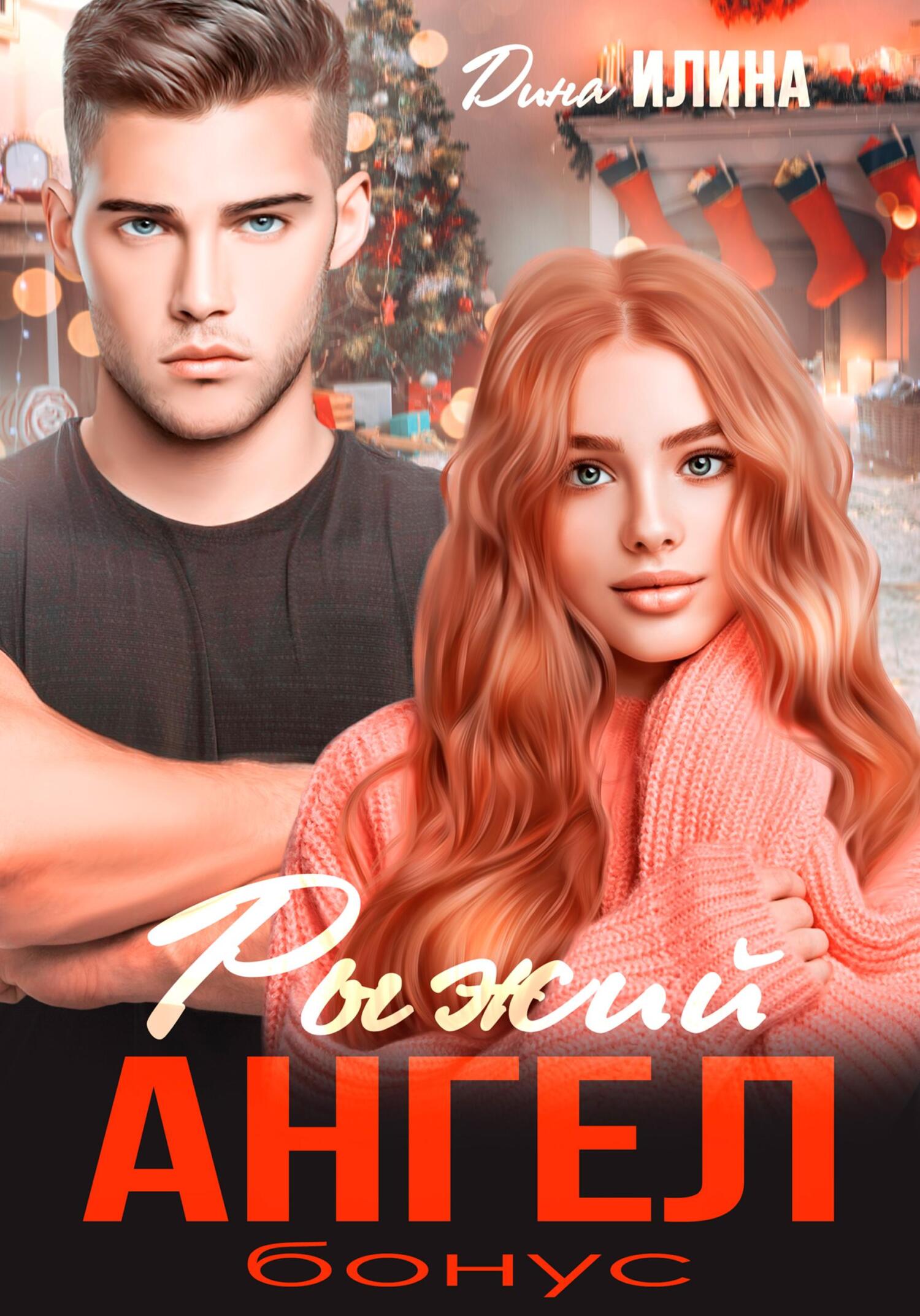Шрифт:
Закладка:
Бурелом - это роман от Станислава Прокопьевича Балабина, в котором он рассказывает о жизни и работе лесников в трудные послевоенные годы. Главный герой романа - Алексей Степанович Лукин, начальник лесхоза, который ставит перед собой задачу восстановить разрушенные леса и обеспечить страну древесиной. Он не боится трудностей и опасностей, которые поджидают его на каждом шагу - от бандитов и воров до пожаров и буреломов. Он верит в свое дело и любит своих подчиненных, которые готовы идти за ним на любые подвиги. Но у него есть и личная жизнь, которая не всегда складывается гладко. Он переживает развод с женой, влюбляется в молодую учительницу, сталкивается с непониманием своих детей. Сможет ли он сохранить равновесие между работой и семьей, между долгом и чувствами?
Если вы любите читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, то не пропустите этот захватывающий роман от Станислава Балабина, который покажет вам красоту и суровость русского леса, а также силу и мужество его хранителей. Бурелом - это книга, которая не даст вам скучать!