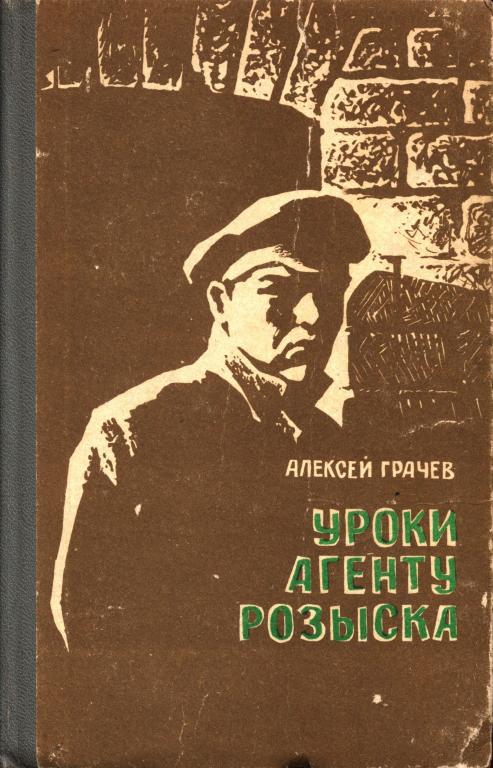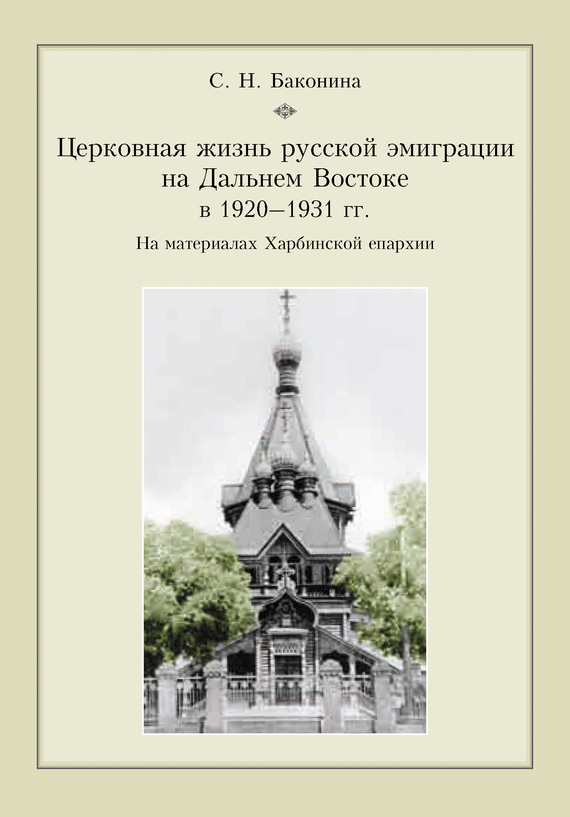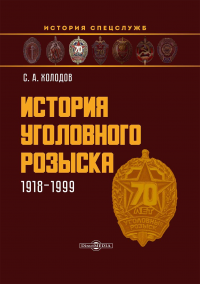Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В своей новой повести прозаик Алексей Грачев рассказывает о трудной работе сотрудников уголовного розыска в одном из губернских городов в первые годы существования молодой Советской республики. Автор использовал материалы Государственного архива Ярославской области и воспоминания ветеранов милиции.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Федорович Грачев»: