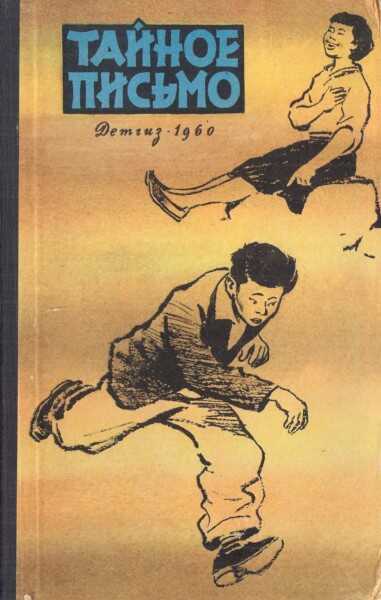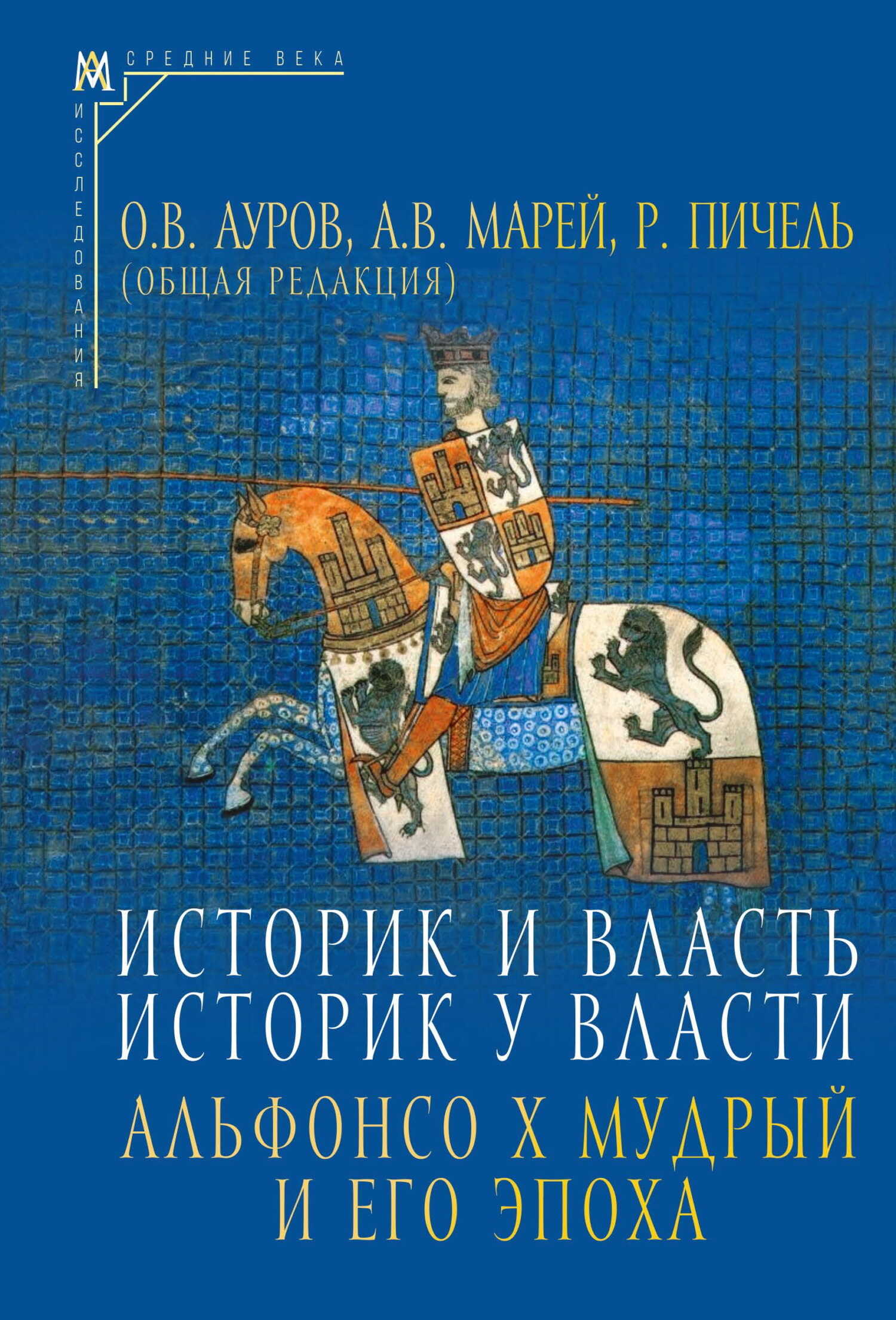Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжающийся сборник «Советская гениза», первый выпуск которого держит в руках читатель, ставит своей целью введение в научный и общественный оборот источников по истории евреев в СССР. Под «введением в оборот» составители понимают не только полную или частичную публикацию различных текстов, но и их осмысление. Это и определило формат издания: сочетание развернутых аналитических статей и – в качестве приложений к ним – обширных подборок архивных документов.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов»: