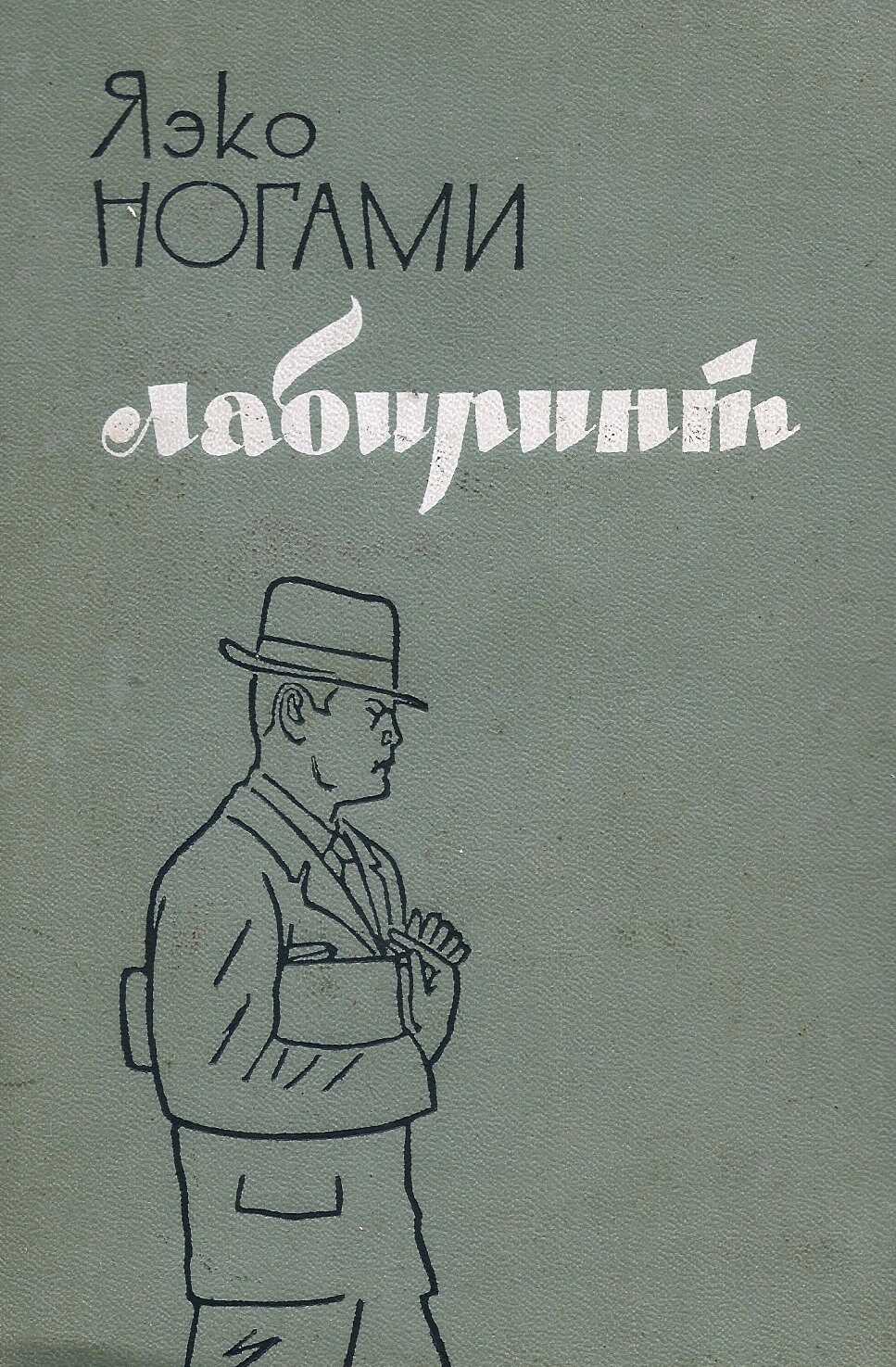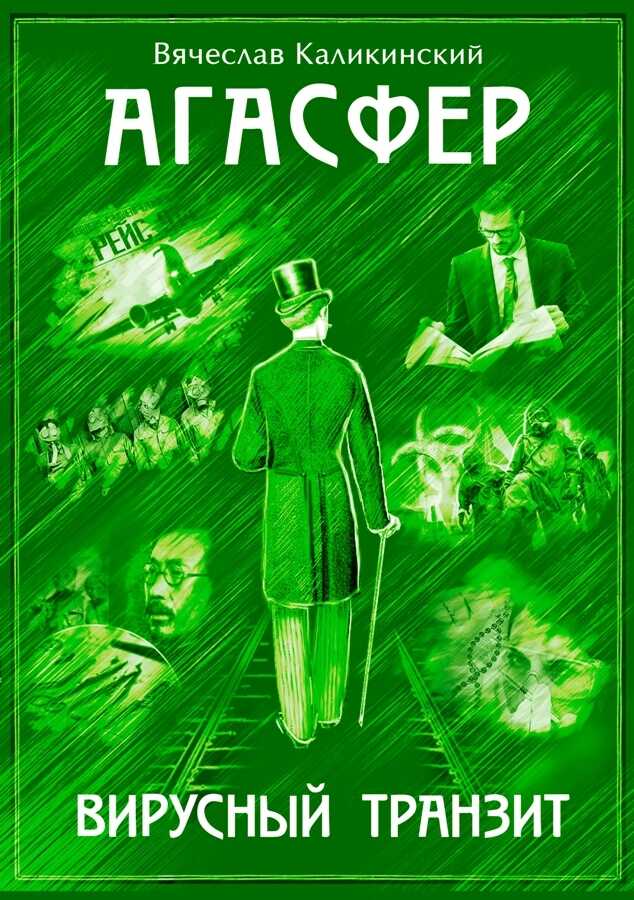Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Лабиринт» принадлежит перу старейшей японской писательницы Яэко Ногами (р. 1885 г.). Первое произведение писательницы было опубликовано еще в 1907 году.«Лабиринт» вышел в свет в 1952 году. Это — крупное реалистическое полотно, дающее широкую и яркую картину жизни Японии тридцатых — сороковых годов двадцатого века.События этих бурных лет оставили глубокий след в мировой истории, и к ним, вероятно, еще не раз будут возвращаться писатели разных стран.По широте охвата жизненных явлений и исторических событий, глубине социального и психологического анализа и значительности художественных обобщений «Лабиринт» может быть назван романом-эпопеей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Яэко Ногами»: