Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Работник издательства знакомится с начинающей писательницей и между ними вспыхивает взаимное чувство. Она замужем, поэтому им приходится скрываться от окружающих. Её муж, строитель гидроэлектростанций, намерен отправиться в Афганистан и непременно с супругой. Герой, потерявший голову, предлагает себя в качестве переводчика для него. Предложение принимают, но в Кабул выезжают только двое. Терзания, думы, предположения, размышления не оставляют влюблённого героя. Когда же всё-таки является жена босса, она оказывается совсем другой женщиной…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Буало-Нарсежак»:
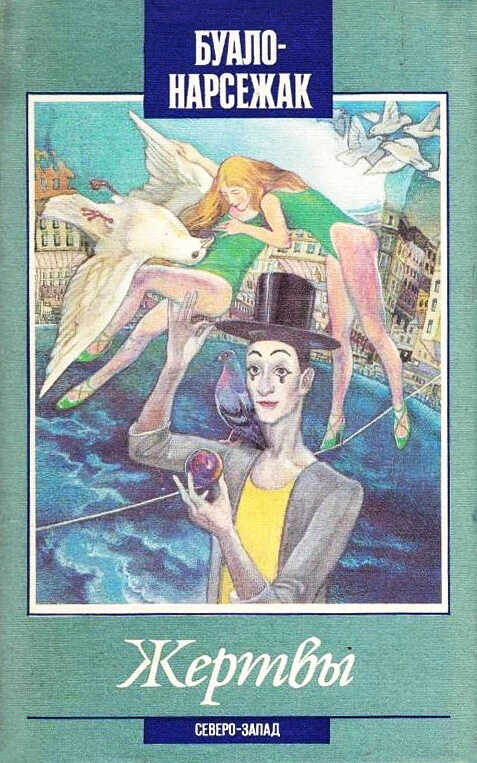
![Фокусницы [Куклы; Колдуньи] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16780/16780.jpg)
![Убийство на расстоянии [Песенка, которая убивает] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16779/16779.jpg)






