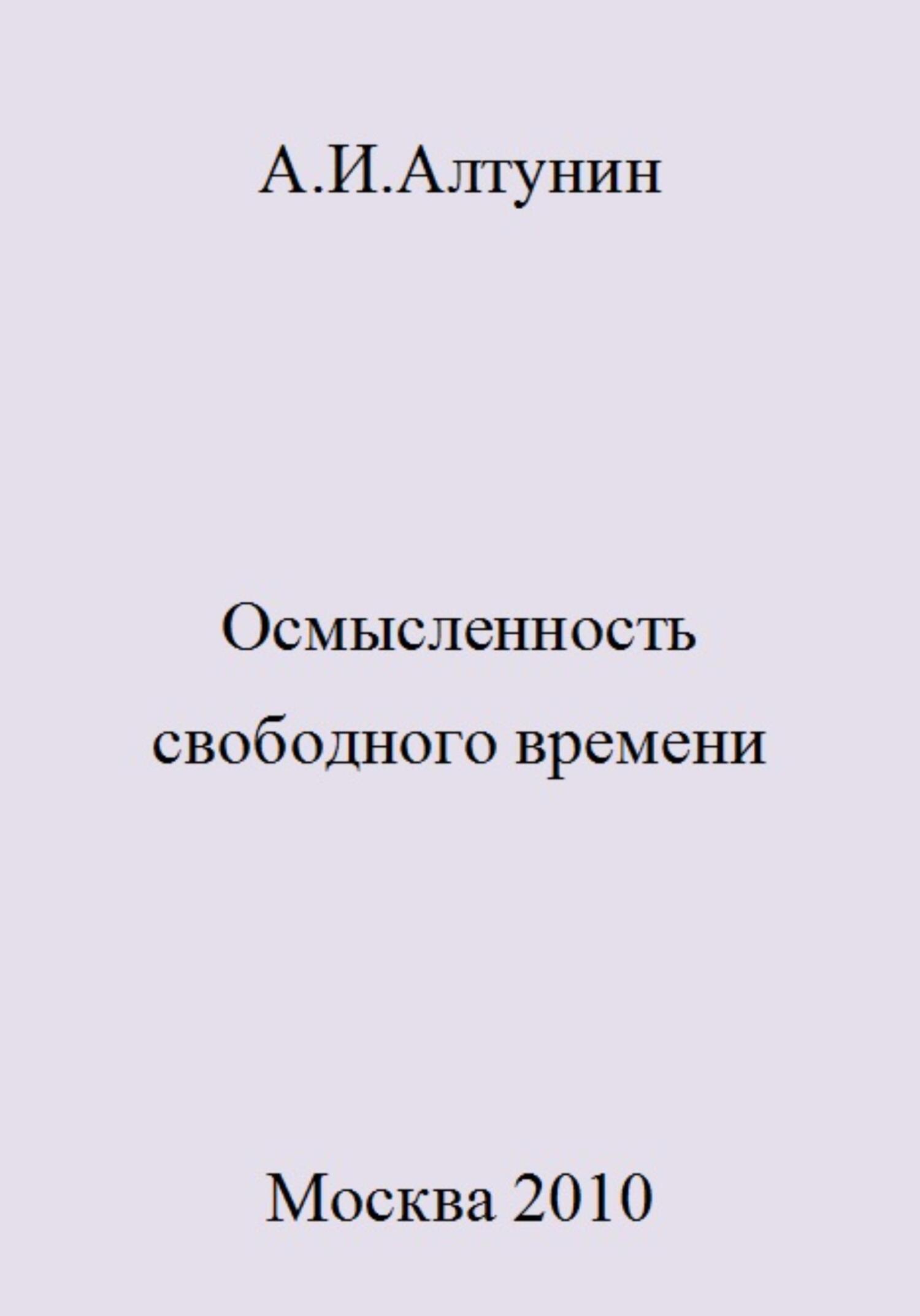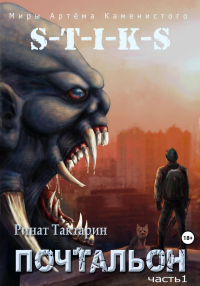Шрифт:
Закладка:
Новая книга Алексея Кирилловича Симонова, известного кинорежиссера, писателя, сценариста, журналиста, представляет собой сборник воспоминаний и историй, возникших в разные годы и по разным поводам. Она состоит из трех «залов», по которым читателям предлагают прогуляться, как по увлекательной выставке.Первый «зал» посвящен родственникам писателя: родителям – Константину Симонову и Евгении Ласкиной, бабушкам и дедушкам. Второй и третий «залы» – воспоминания о молодости и встречах с такими известными людьми своего времени, как Леонид Утесов, Галина Уланова, Юрий Никулин, Александр Галич, Булат Окуджава, Алексей Герман.Также речь пойдет о двух театрах, в которых прошла молодость автора, – «Современнике» и Эстрадной студии МГУ «Наш дом», о шестидесятниках, о Высших режиссерских курсах и «Новой газете»…В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.