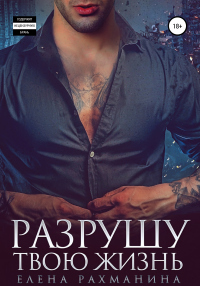Шрифт:
Закладка:
Эта книга – дебютный роман американской актрисы и шекспироведа М. Л. Рио, который стал бестселлером в США и получил высокие оценки критиков и читателей. Это книга о темной академии, о театре и Шекспире, о дружбе и предательстве, о любви и смерти.
Семеро студентов – Оливер, Джеймс, Ричард, Александр, Мередит, Филиппа и Урен – учатся в элитной театральной академии Деллекер-холл, где они специализируются на шекспировских пьесах. Они живут в своем мире, оторванном от реальности, где они играют роли на сцене и за ее пределами. Они цитируют Шекспира в любой ситуации, они одеваются как персонажи из его произведений, они любят и ненавидят друг друга как герои его трагедий.
Но однажды все меняется. Во время репетиции одной из пьес происходит несчастный случай, в результате которого погибает один из студентов. Полиция начинает расследование и подозревает, что это было убийство. Один из друзей признается в преступлении и отправляется в тюрьму. Десять лет спустя он выходит на свободу и рассказывает свою версию событий детективу Колборну. Но правда ли это? Или это всего лишь еще одна роль в его жизненном спектакле?
«Словно мы злодеи» – это роман о том, как сила слов может создавать и разрушать мир. Это книга о том, как тонкая грань между вымыслом и действительностью может стать опасной для жизни. Это книга о том, как страсть к искусству может превратиться в страсть к преступлению.
Если вы хотите прочитать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, перейдите по ссылке: https://knizhkionline.com/slovno-my-zlodei