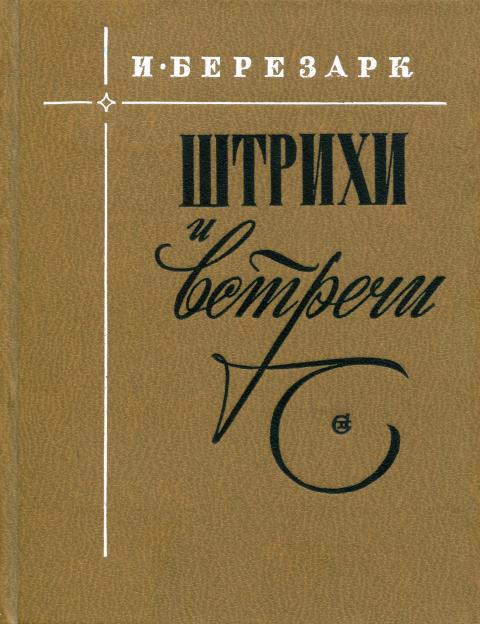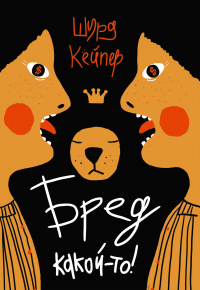Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу Ильи Борисовича Березарка (1897—1981), которую он закончил незадолго до смерти, вошли повесть о детстве и ранней юности «В самом начале века» и цикл очерков и рассказов, объединенных названием «Память рассказывает», — о деятелях литературы и искусства, с которыми автор встречался за свою долгую жизнь. В книгу вошли очерки о Горьком, Луначарском, Станиславском, Есенине, Маяковском, Фадееве, В. Ставском, Лапине и Хацревине, Олеше, Афиногенове, Лавреневе, Зощенко, Антоне Шварце, Евгении Шварце, Соллертинском и других.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Илья Борисович Березарк»: