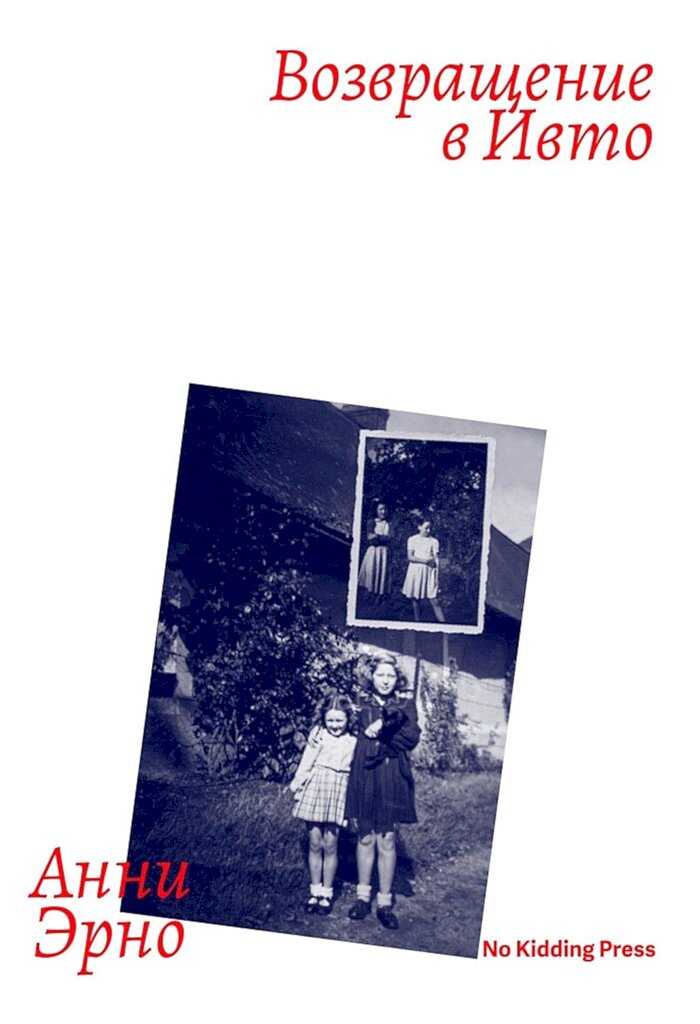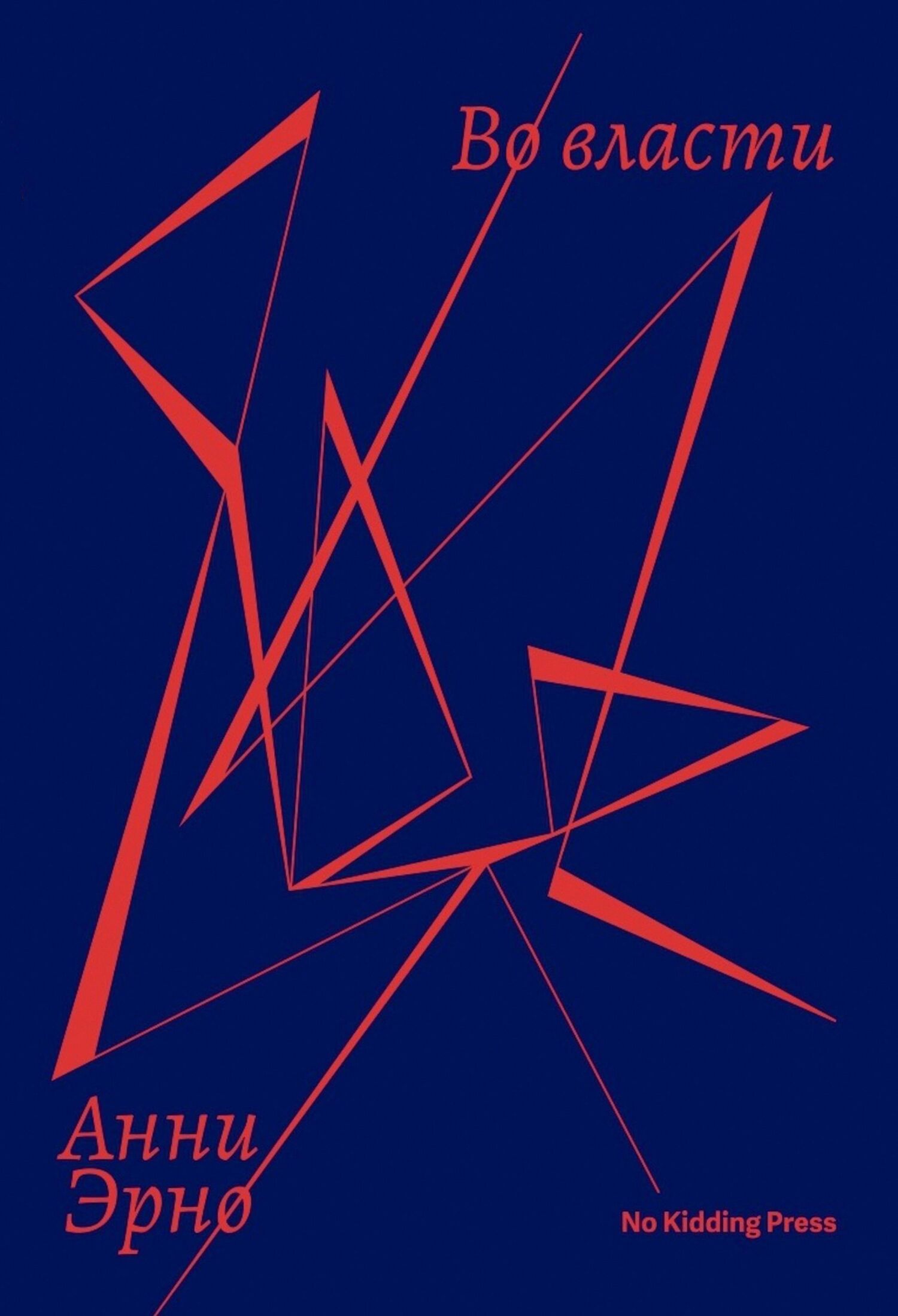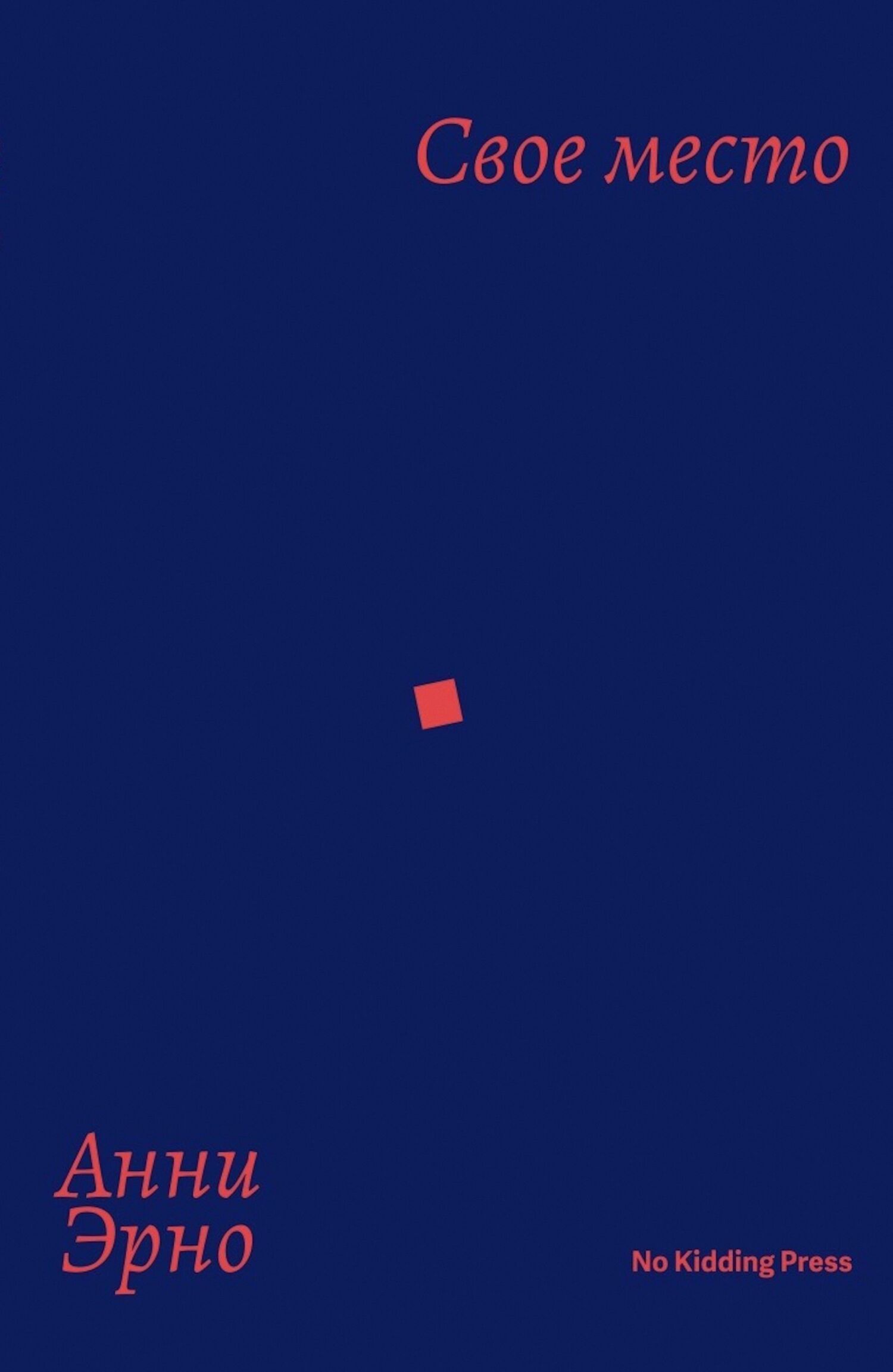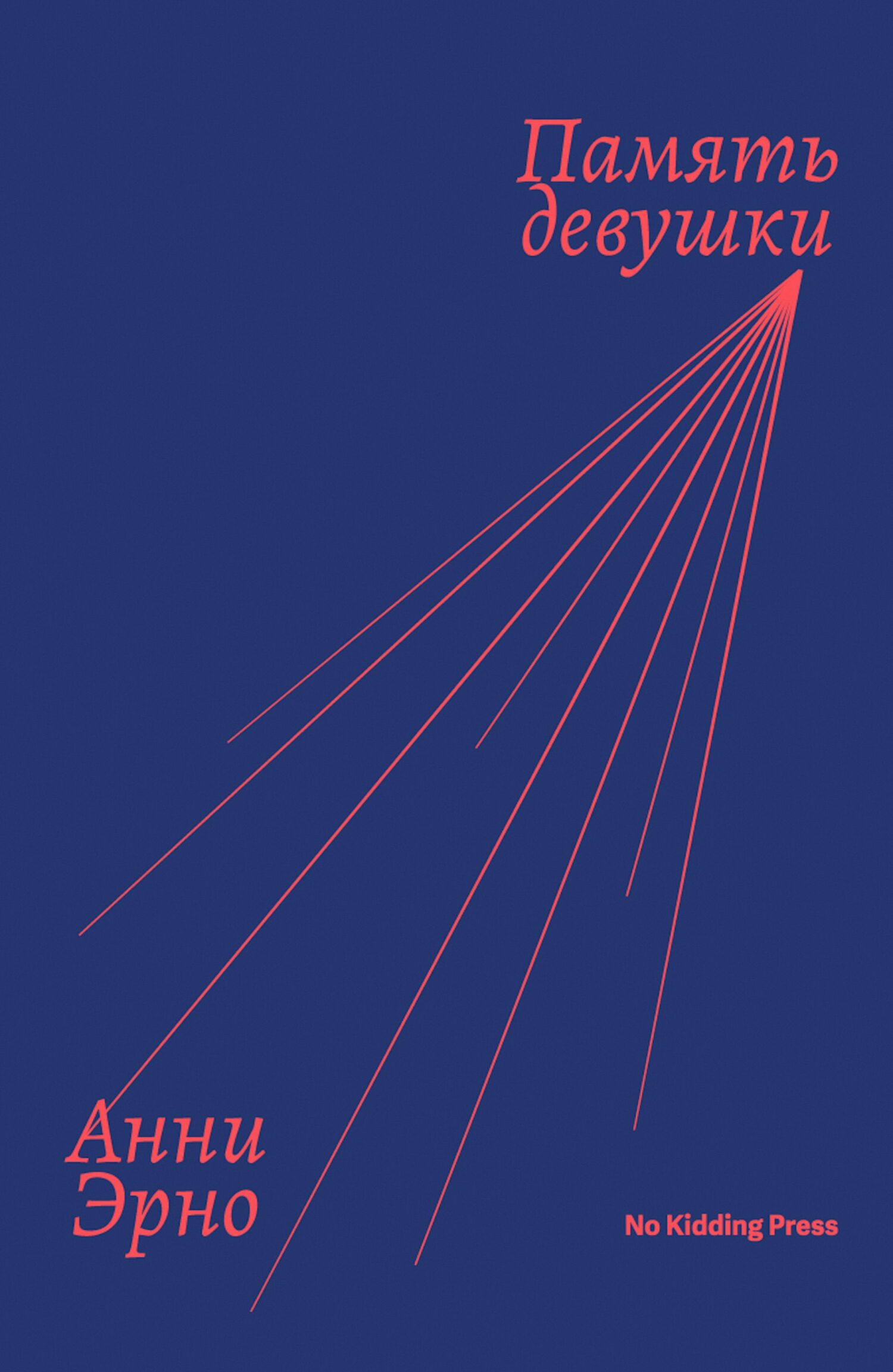Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Жанр Современная проза
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анни Эрно»: