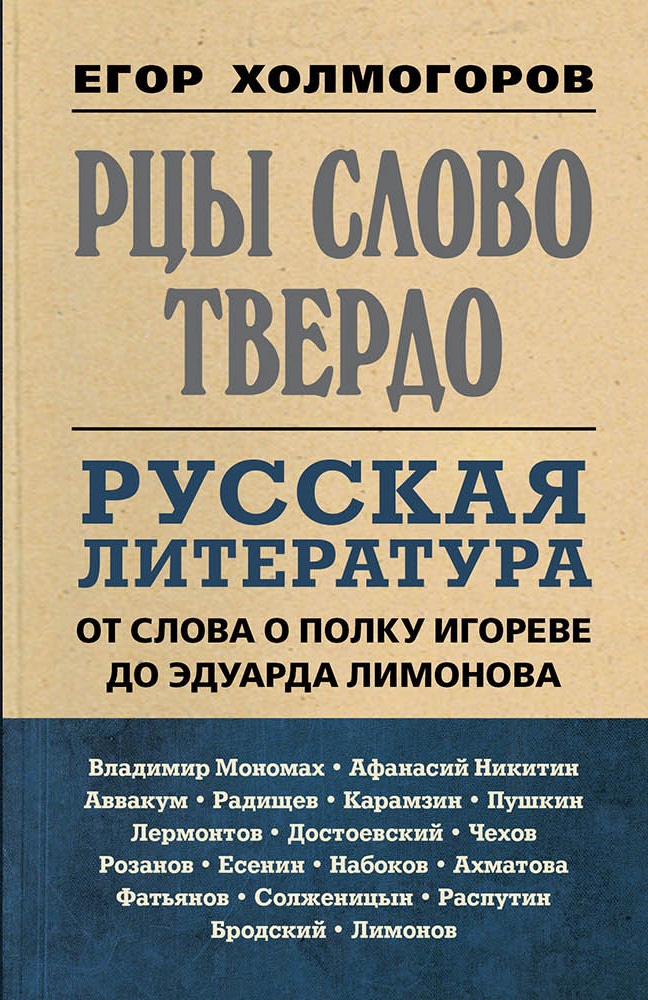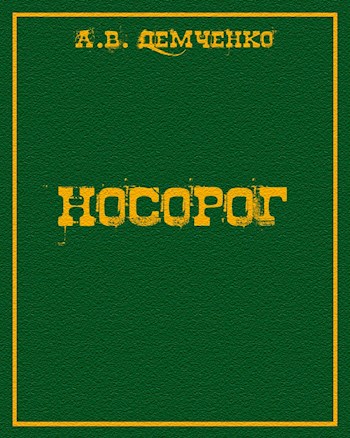Шрифт:
Закладка:
Михаил Шолохов – один из крупнейших писателей ХХ века, автор эпических произведений, посвящённых революционным событиям в России и прежде всего на его родном Верхнем Дону. По праву считаясь советским патриотом и убеждённым коммунистом, он в то же время постоянно подвергался партийной критике, защищал жертв репрессий и сам едва избежал расправы ретивых чекистов. Любимый миллионами читателей, он был чужим для завистливого литературного бомонда, в среде которого родилась до сих пор не изжитая версия о том, что самый знаменитый шолоховский роман «Тихий Дон» написан не им, а другим автором или целой группой «литературных негров».В своей новой полномасштабной биографии Шолохова известный писатель, публицист, политик Захар Прилепин убедительно разоблачает эту и другие легенды, окружающие имя классика. Шаг за шагом проходя вместе с героем его жизненный и творческий путь, Прилепин показывает, что не только книги Шолохова, но и его судьба актуальны для нас и сегодня.