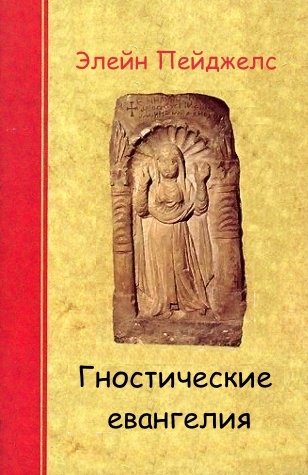Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перевод на русский язык одной из самых известных работ профессора религиоведения Принстонского университета Элейн Пейджелс. В книге исследуются не только гностические евангелия, но и жизнь раннехристианских гностических общин.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Элейн Пейджелс»: