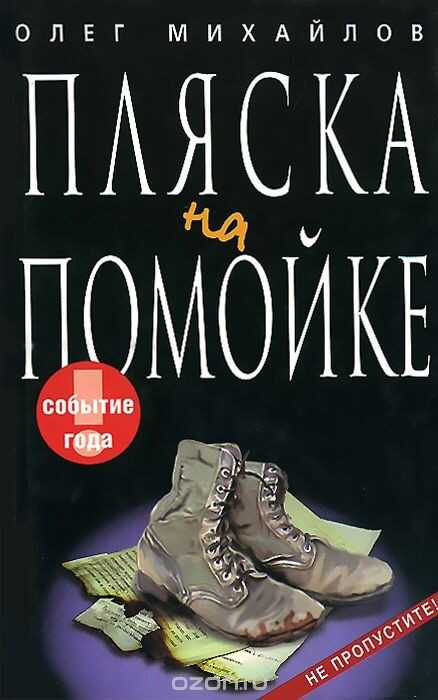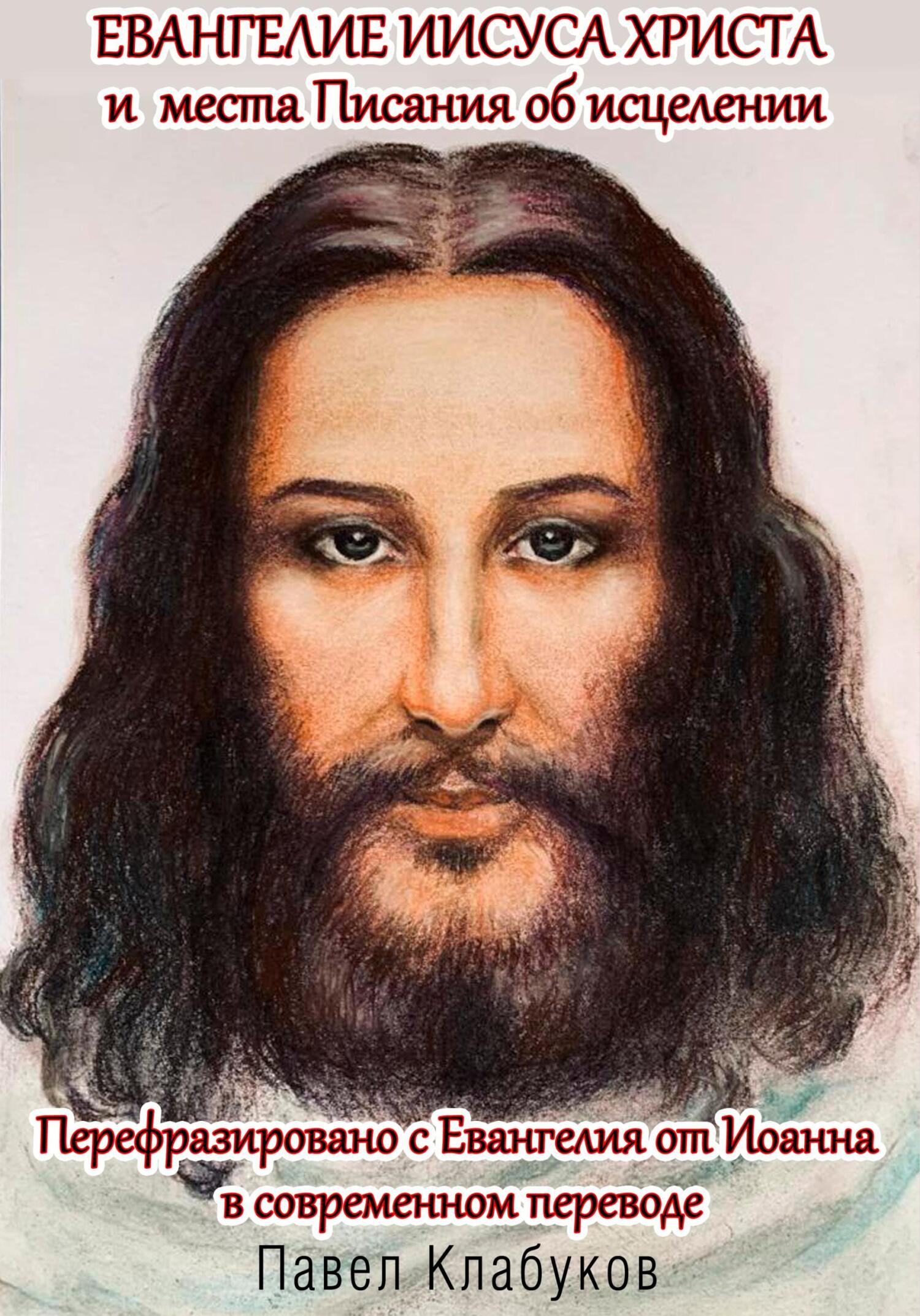Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Трагикомический роман известного русского писателя Олега Михайлова посвящён судьбе творческой интеллигенции. Преуспевающий московский литератор, лицедей и притворщик, создаёт видимое благополучие - семья с юной женой и поздней дочерью. Но это благополучие рушится под ударами беспощадного топора "перестройки". Он теряет всё - семью, жену, дочь, способность работать, опускаясь всё глубже в пьяную виртуальность. Герой постепенно постигает, что пришла расплата за содеянное, за легкомысленно промотанную жизнь.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Олег Николаевич Михайлов»: