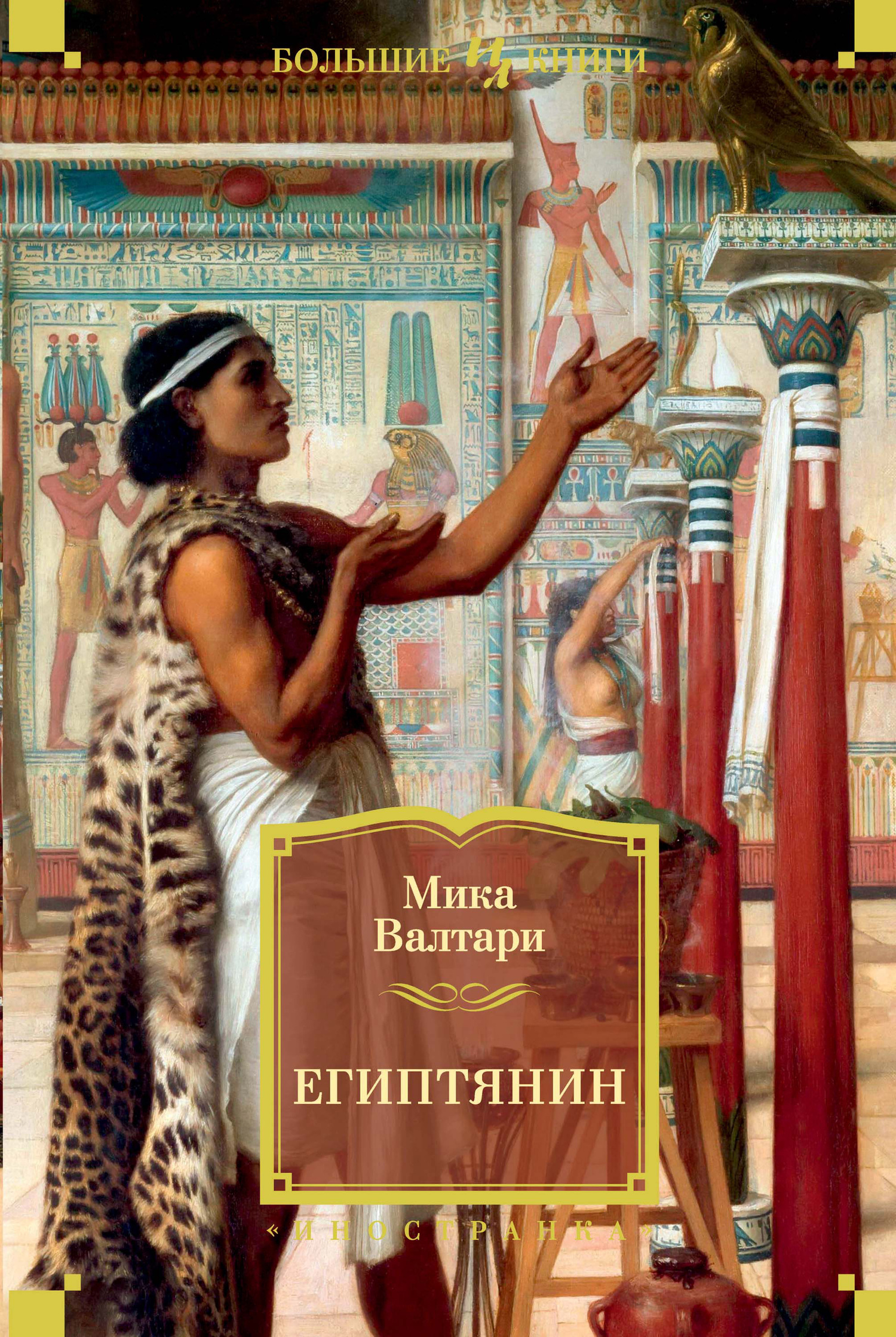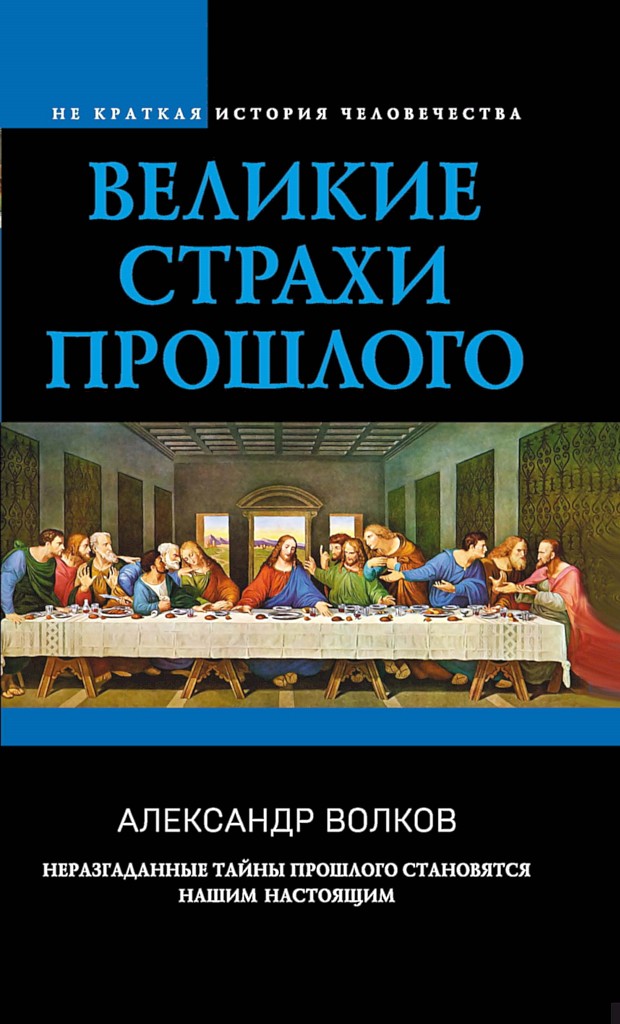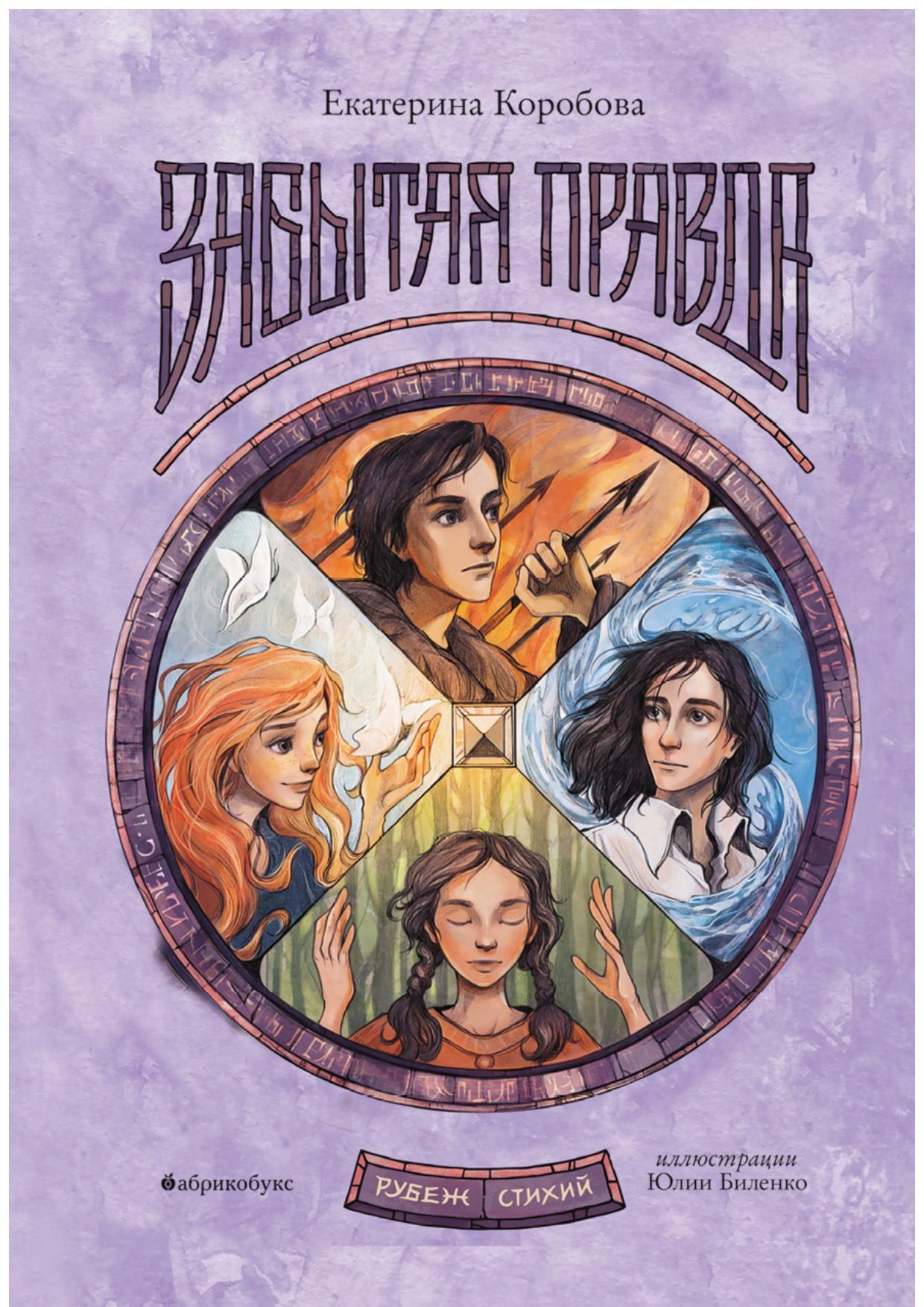Шрифт:
Закладка:
Книга «Египтянин» – это исторический роман от Мика Валтари, который перенесет вас в древний Египет времен фараона Эхнатона. Это история о Синухете, египетском враче, который становится свидетелем и участником великих событий, которые изменили ход истории. Это история о том, как он путешествует по разным странам, знакомится с разными культурами, влюбляется и ненавидит, сражается и мирится, ищет смысл жизни и свое место в мире.
Синухет – сын бедного египтянина, который был найден в корзинке на берегу Нила. Он вырос в благополучной семье, получил образование и стал врачом. Он служил при дворе фараона Аменхотепа III, а затем его сына Эхнатона, который провозгласил себя единственным богом и основал новую религию. Он был другом и советником фараона, а также его жены Нефертити. Он также был влюблен в прекрасную Бакетамон, дочь одного из главных жрецов.
Синухет покинул Египет после того, как стал невольным убийцей. Он побывал в разных уголках света: в Вавилоне, Сирии, Крите, Греции, Хеттском царстве. Он видел великолепие и разврат цивилизаций, красоту и жестокость природы, любовь и ненависть людей. Он испытал радость и горе, славу и бедность, веру и сомнение. Он стал воином, торговцем, рабом, царем. Он искал ответы на вечные вопросы: кто он такой, откуда он пришел, куда он идет.
«Египтянин» – это книга, которая не оставит вас равнодушными. Это книга, которая заставит вас переживать за героя, ненавидеть его, жалеть его, любить его. Это книга, которая покажет вам мир полный истории, культуры и мифологии. Это книга, которая расскажет вам о жизни, которая может быть удивительной и ужасной, прекрасной и страшной, светлой и темной. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com