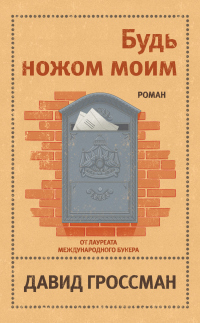Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Он женат. Она замужем. Но это не имеет значения, ведь он не ищет плотской связи. Он ищет духовного единения.И тогда он пишет ей первое, неловкое, полное отчаяния письмо.«Будь ножом моим» – это история Яира и Мириам, продавца редких книг и учительницы. Измотанных жизнью, жаждущих перемен, тянущихся друг к другу, как к последней тихой гавани. Это история о близости, ее гранях и границах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Давид Гроссман»: