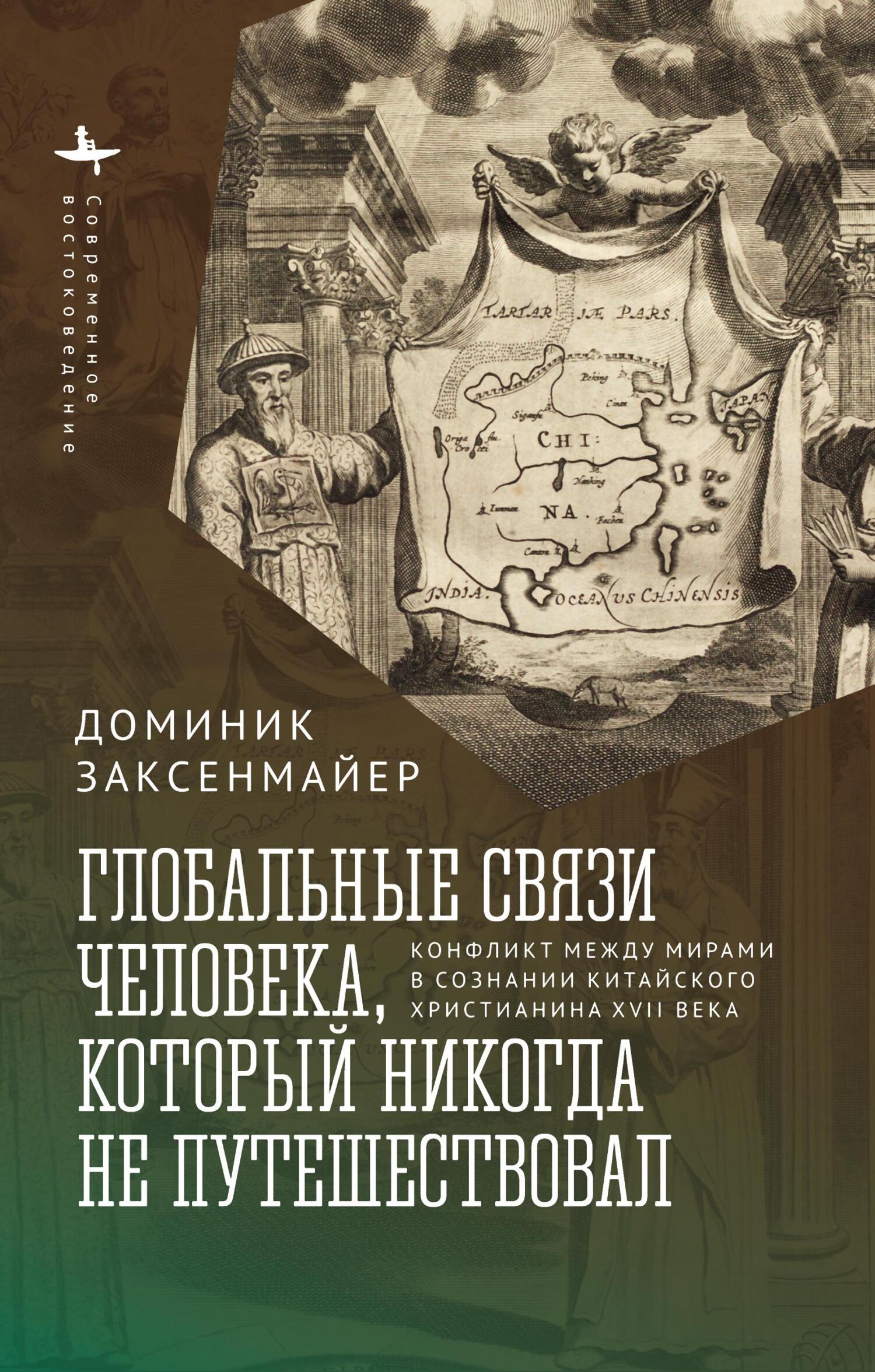Шрифт:
Закладка:
Как можно быть гражданином мира, если ты никогда не выезжал за пределы своей родины? Как совместить веру в христианского Бога с приверженностью китайской культуре и традициям? Эти и другие вопросы ставит перед собой главный герой романа Доминик Заксенмайера - Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал. Он - китаец, родившийся в XVII веке в семье христианских миссионеров. Он учится в европейской школе, но не знает ничего о мире за стенами Пекина. Он любит свою страну, но чувствует себя чужим среди своих соотечественников. Он ищет свое место в жизни, но сталкивается с конфликтом между двумя мирами, которые не могут понять друг друга. Это - захватывающая история о поиске идентичности, о любви и предательстве, о вере и сомнении, о глобализации и изоляции. Это - книга, которую стоит прочитать всем, кто интересуется историей Китая, религией и межкультурным диалогом. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.