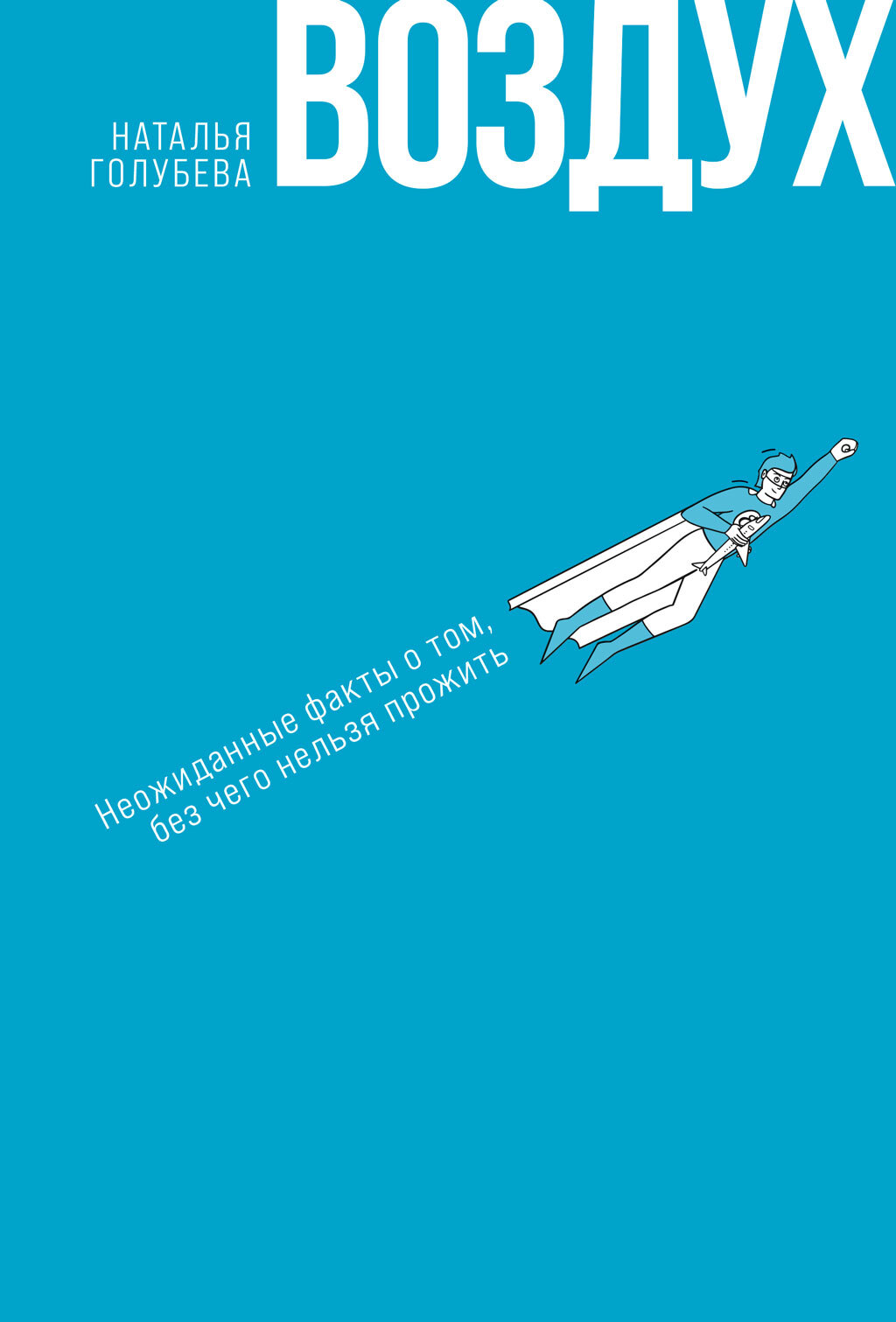Шрифт:
Закладка:
”В какой-то момент наши слова, наши мысли о культуре и литературе, русской и мировой, эти бесконечные цитирования, эти попытки понимания – стали требовать выхода; пора было переносить наши разговоры на бумагу. Договорились писать диалоги. Не эссе, не очерки, а именно диалоги – про всё на свете, что кажется нужным, важным. И вот, прихлебывая чай с чабрецом, мы всё перебирали, голова к голове, строили сценарии, бродили по тропинкам и закоулкам русской словесности, и не только…”В остроумных, тонких, блестящих беседах писателя Татьяны Толстой и кинокритика, эссеиста, культовой фигуры андеграунда Александра Тимофеевского легко и естественно совершаются переходы от Стеньки Разина – к Бунину, а от Пушкина и Чехова – к застольным песням, в них воспоминания о суровом быте девяностых переплетаются с рассказом о бунте стрельцов 1682 года и бегстве Петра I в Троицу в 1689-м, здесь сошлись Восток и Запад, Эрос и Танатос, еда и телесность, а Есенин и Высоцкий соседствуют с Приговым и “Дау” Хржановского…В книгу также вошли тексты друзей и близких Тимофеевского: Татьяна Москвина, Сергей Николаевич, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Иван Давыдов, Алексей Зимин, Ольга Тобрелутс, Дмитрий Ольшанский, Андрей Плахов, Дмитрий Воденников, Елена Посвятовская, Елена Веселая и многие другие вспомнили о том, “каким был Шура”.