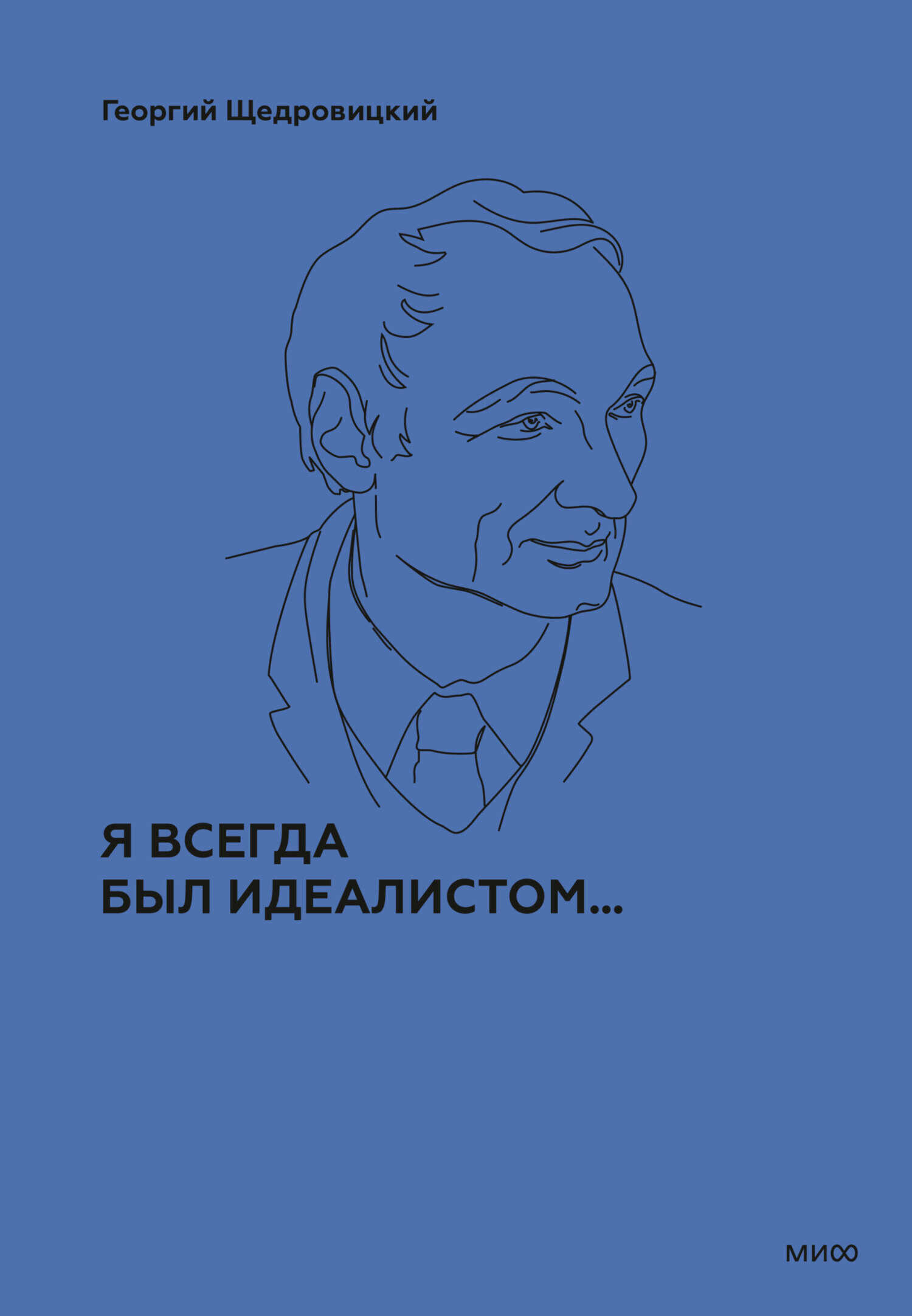Шрифт:
Закладка:
С этой книги начинается многотомное издание трудов философа и методолога Г. П. Щедровицкого. В нее вошли воспоминания Георгия Петровича о времени и о себе, они были записаны на магнитофон 44 года назад.В 1980-е годы журнал «Знание – сила» начал цикл публикаций о деятелях советской психологии; Георгий Петрович отнесся к ним критически, увидел много ошибок, сознательных или бессознательных, много несуразностей и излишнюю комплиментарность. Он начал эти разговоры с Ириной Прусс (родственницей семьи Давыдовых), вспоминал и рассказывал о своих встречах с выдающимися советскими психологами. Николай Щукин – молодой тогда человек, работавший в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР на Моховой, приезжал на дачу Георгия Петровича за консультацией и заинтересовался беседой с Ириной. Щукин стал бывать по воскресеньям в Болшево, где и велись эти беседы. Первая из них началась с воспоминаний Георгия Петровича об известных отечественных психологах, затем эти беседы превратились в воспоминания и размышления о собственном пути и о людях, с которыми были встречи, дружба, ссоры.Живой, наполненный колоритными деталями и яркими, проницательными характеристиками рассказ о семье, о школьных и студенческих годах, о друзьях и недругах, о единомышленниках и оппонентах сочетается с размышлениями о жизни. Кому-то запись этих бесед позволит составить, а кому-то уточнить представление о Г. П. Щедровицком как о творческой личности и человеке, искавшем свой путь.Для кого книгаДля тех, кто интересуется личностью Г. П. Щедровицкого.Для широкого круга читателей, увлеченных историей философии и методологией.