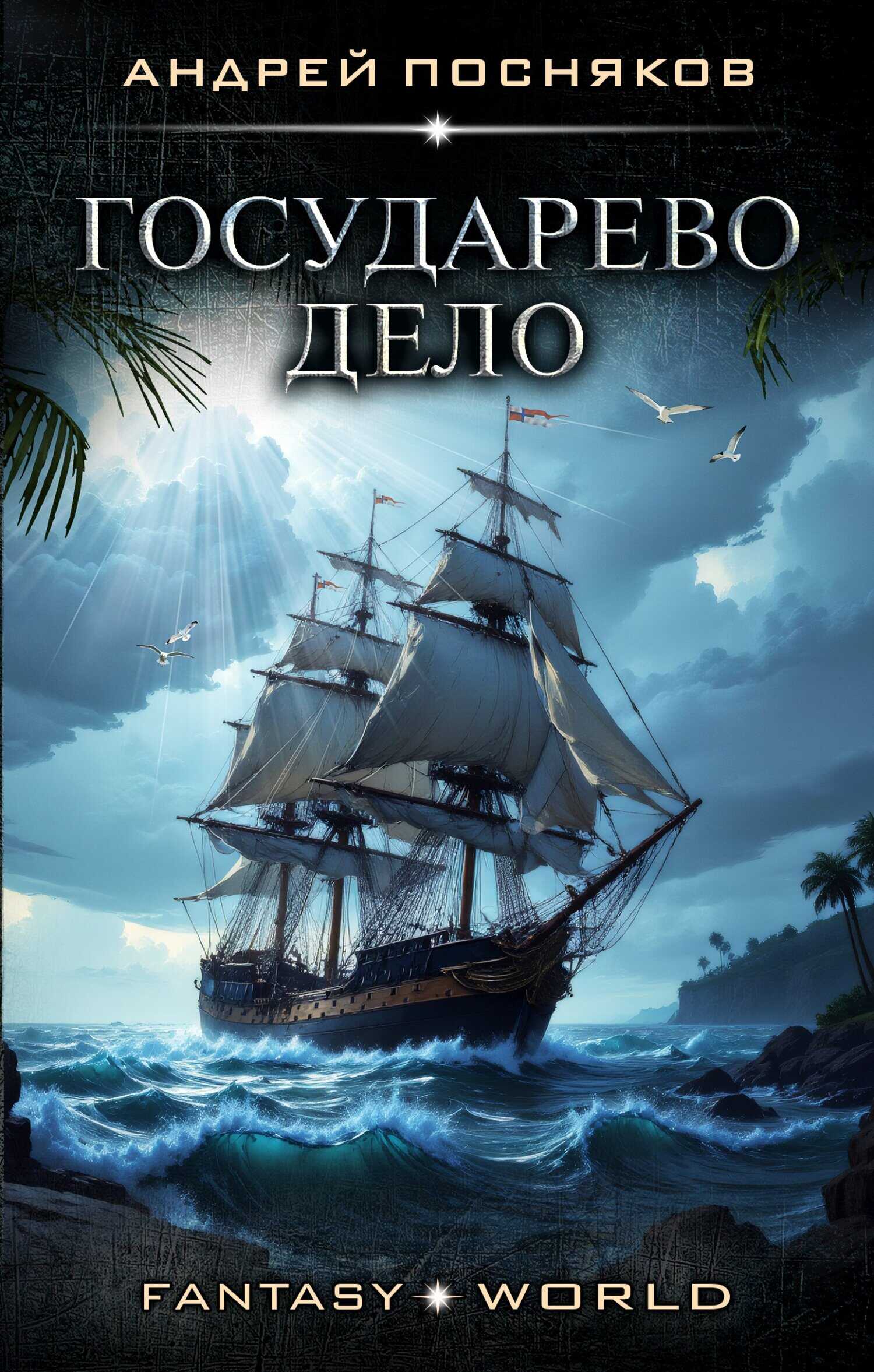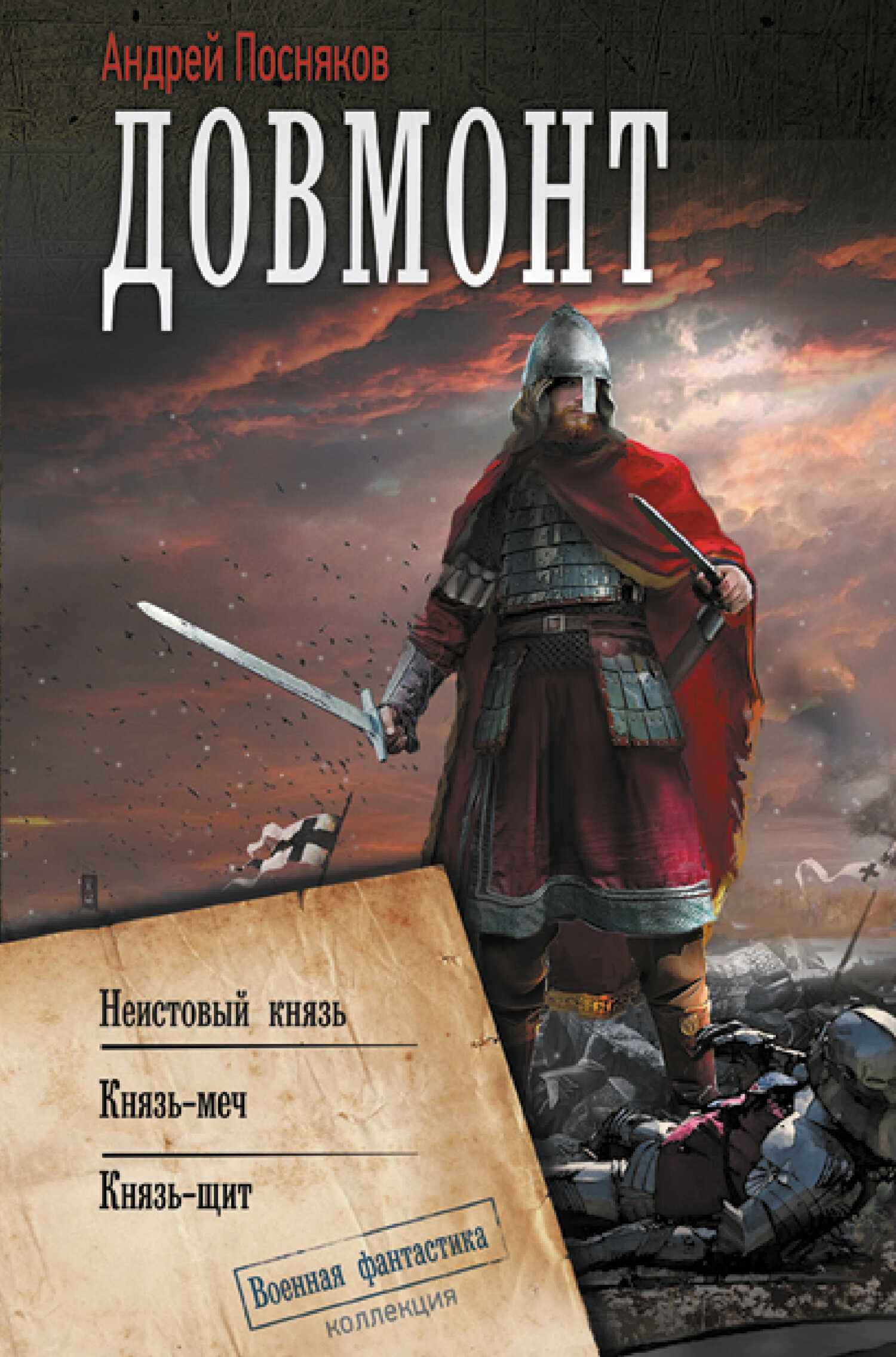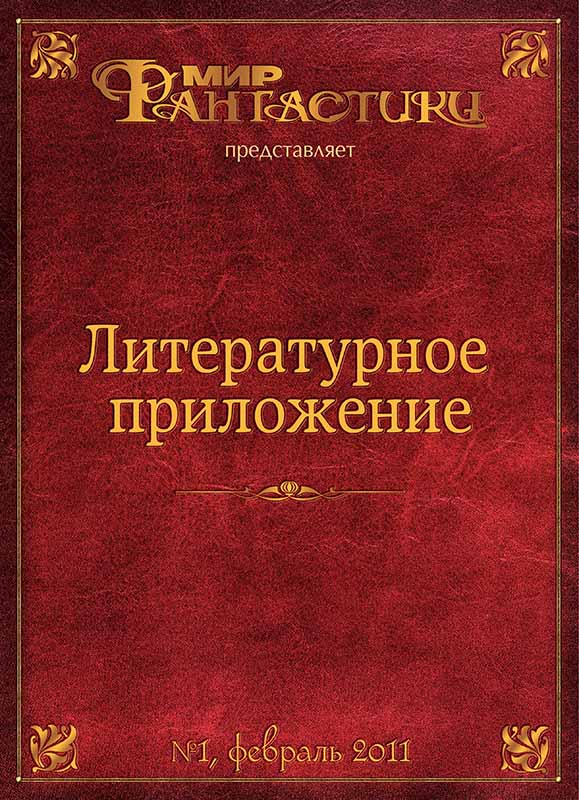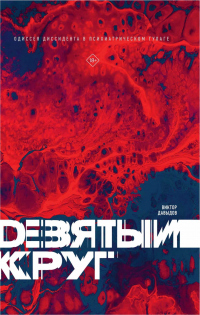Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сорвав попытки черного друида узурпировать власть в Киеве, молодой ярл Хельги отправляется в Ладогу. Князь Рюрик назначил его своим наместником в этом важном торговом и ремесленном центре северных славянских земель.Непросто складываются отношения между местным населением и пришлым варягом. К тому же в дальних лесах происходят убийства невинных людей, и пылают усадьбы на порубежье – это пытаются опорочить Хельги его заклятые враги…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Анатольевич Посняков»: