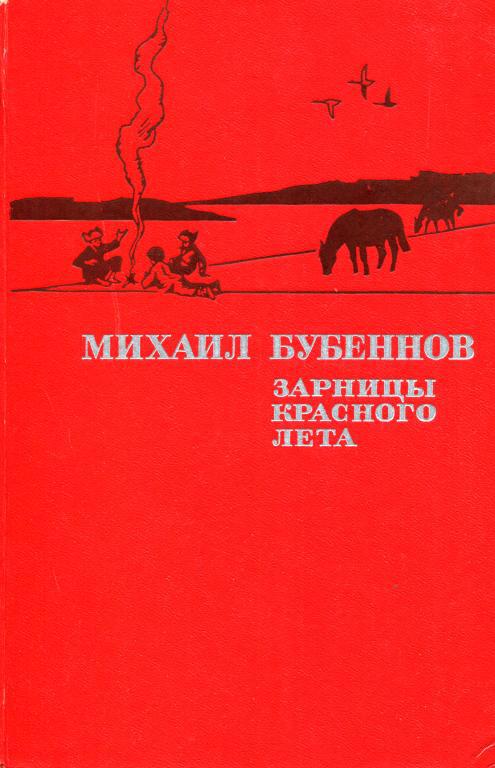Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу Михаила Бубеннова, лауреата Государственной премии СССР, автора романов «Белая береза», «Орлиная степь» и других произведений, вошли новая повесть «Светлая даль юности» и воспоминания «Жизнь и слово», о которых писатель рассказывает о времени и о себе.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Семёнович Бубеннов»: