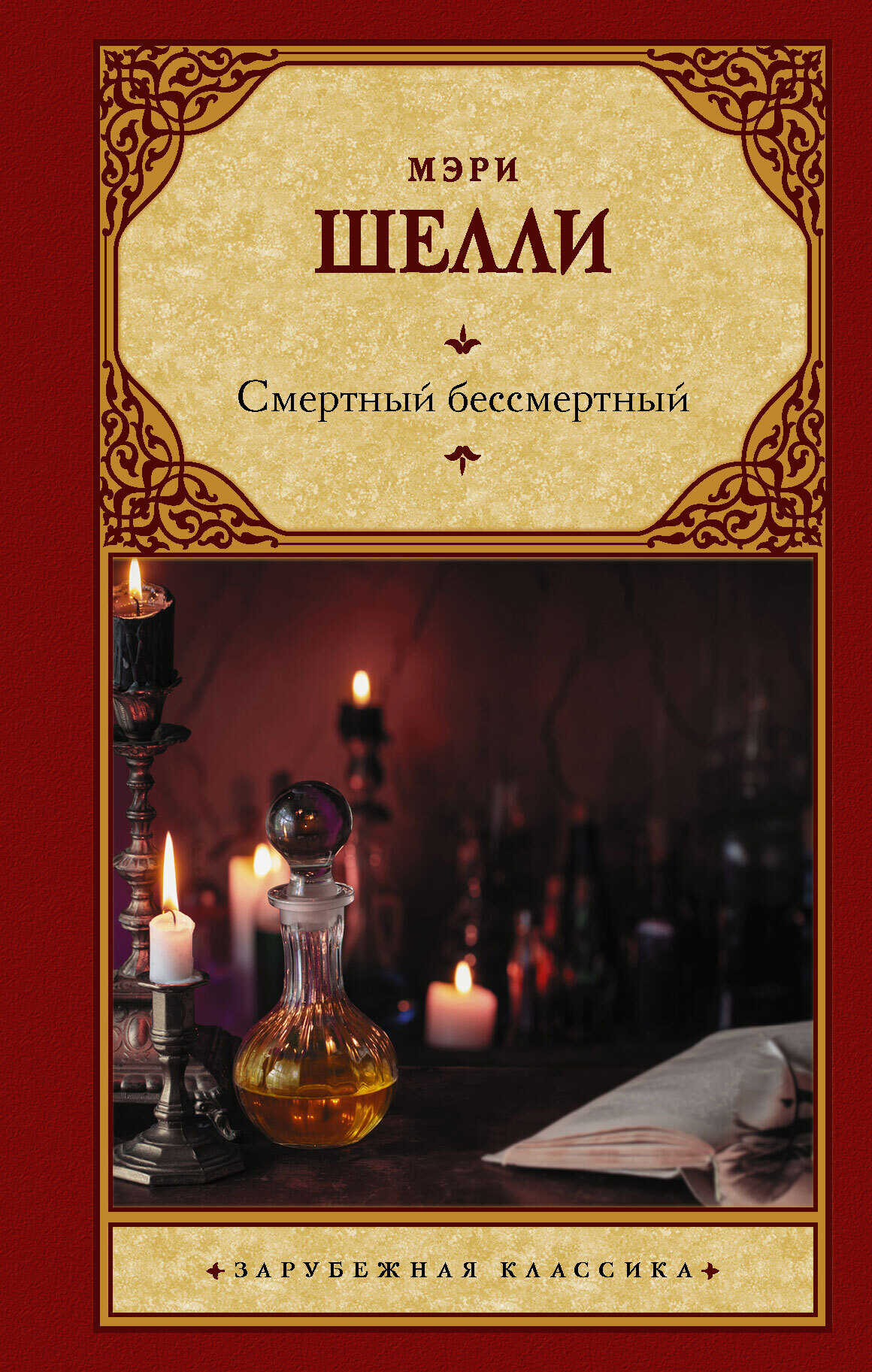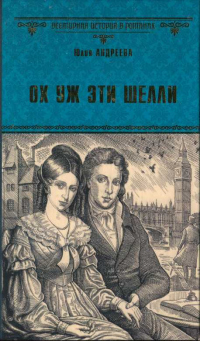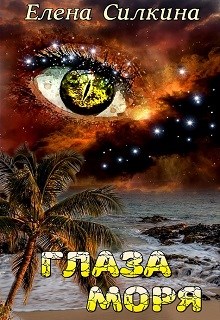Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мэри Шелли по праву считается одной из ярчайших звезд готической литературы. Дань этому нестареющему жанру она отдала не только во «Франкенштейне», но и в своих рассказах и новеллах, написанных в разные годы жизни и исследующих самые разные уголки Неведомого.Таинственный двойник, сумевший занять место молодого графа в его же доме, невероятная сделка с карликом-чародеем в попытке вернуть состояние и положение в обществе, неравная любовь и необычное лекарство – эликсир бессмертия, ночь на смертельно опасном уступе в надежде получить совет от высших сил – в жемчужинах малой прозы королевы готики Мэри Шелли!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мэри Уолстонкрафт Шелли»: