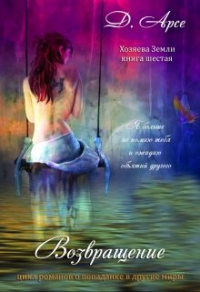Шрифт:
Закладка:
Не у всех хватит мужества покинуть знакомый берег и отплыть через бескрайние моря к землям, не нанесённым на карту. В XVI веке лихие испанские конкистадоры вышли к Тихому океану. Бытовало поверье, что где-то в южных его водах лежит огромный неисследованный материк. Австралия. Но кто рискнёт добраться туда? Эта книга рассказывает о судьбе бесстрашной «перуанки» доньи Исабель Баррето — единственной женщины, удостоенной звания адмирала испанского флота. С поразительной исторической достоверностью и недюжинным художественным мастерством Александра Лапьер воспроизводит на страницах романа события эпохи Великих географических открытий. В 2013 году книга была удостоена нескольких французских литературных премий как лучший исторический и лучший морской роман и переведена на ряд европейских языков.