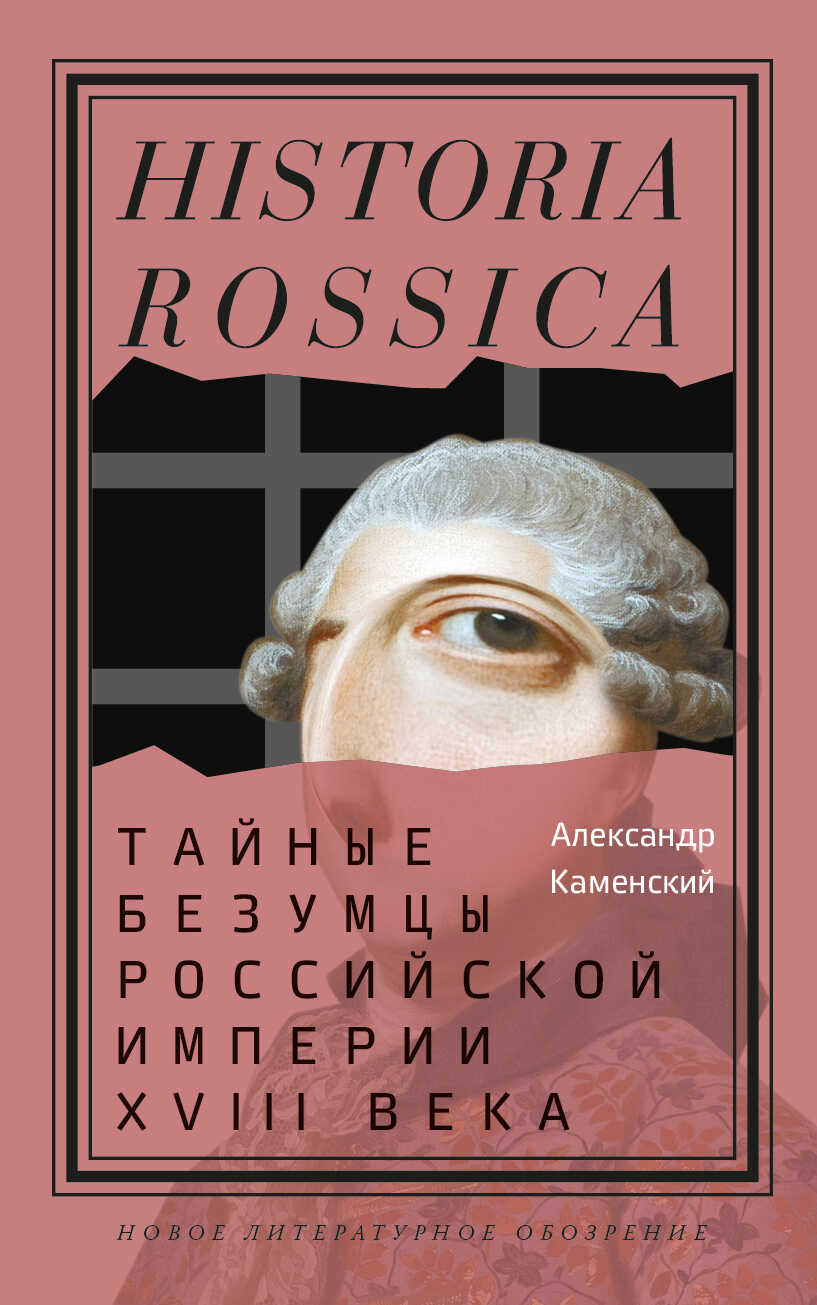Шрифт:
Закладка:
В последние десятилетия в социальных и гуманитарных науках уделяется немалое внимание феномену безумия. Тем не менее крупных работ, посвященных этой теме в контексте истории России Нового времени, до сих пор практически не было. Книга Александра Каменского — одно из первых исследований, восполняющих этот существенный пробел. Монография построена на материале комплекса документов органов политического сыска в Российской империи — Преображенского приказа, Канцелярии тайных и розыскных дел и ее преемницы — Тайной экспедиции Правительствующего сената. Автор показывает, как на протяжении XVIII века менялось отношение к психическим заболеваниям, пересматривалась их трактовка, формировались практики обращения с душевнобольными. В фокусе внимания историка — причины психических заболеваний, формы их проявления и отражение исторических событий в сознании душевнобольных. Изучение следственных дел более трехсот мужчин и женщин — представителей разных социальных слоев, совершивших на протяжении столетия правонарушения политического характера, позволяет автору уточнить и скорректировать ряд устоявшихся в историографии положений о работе государственных институтов и их отношении к безумию, а также выявить особенности российских практик в сравнении с принятыми в других странах того времени. Александр Каменский — доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ.