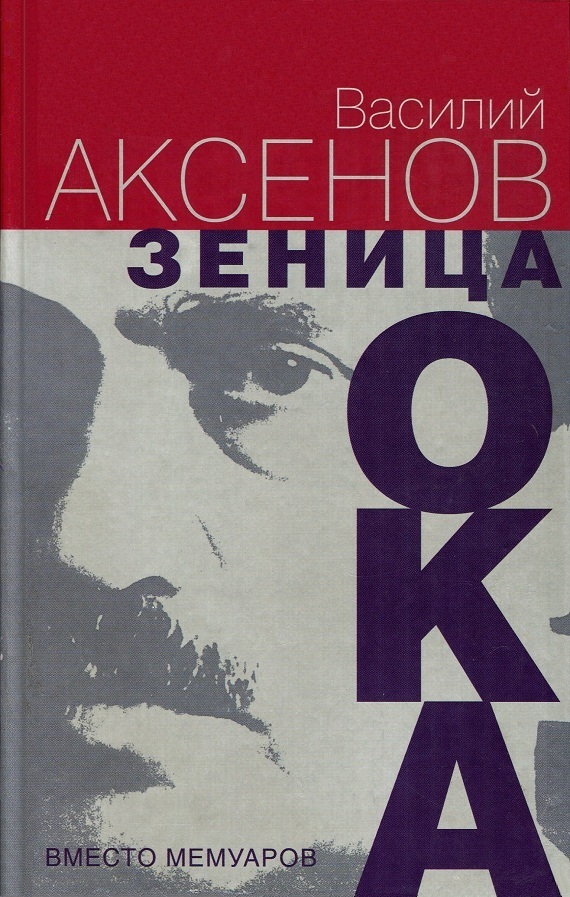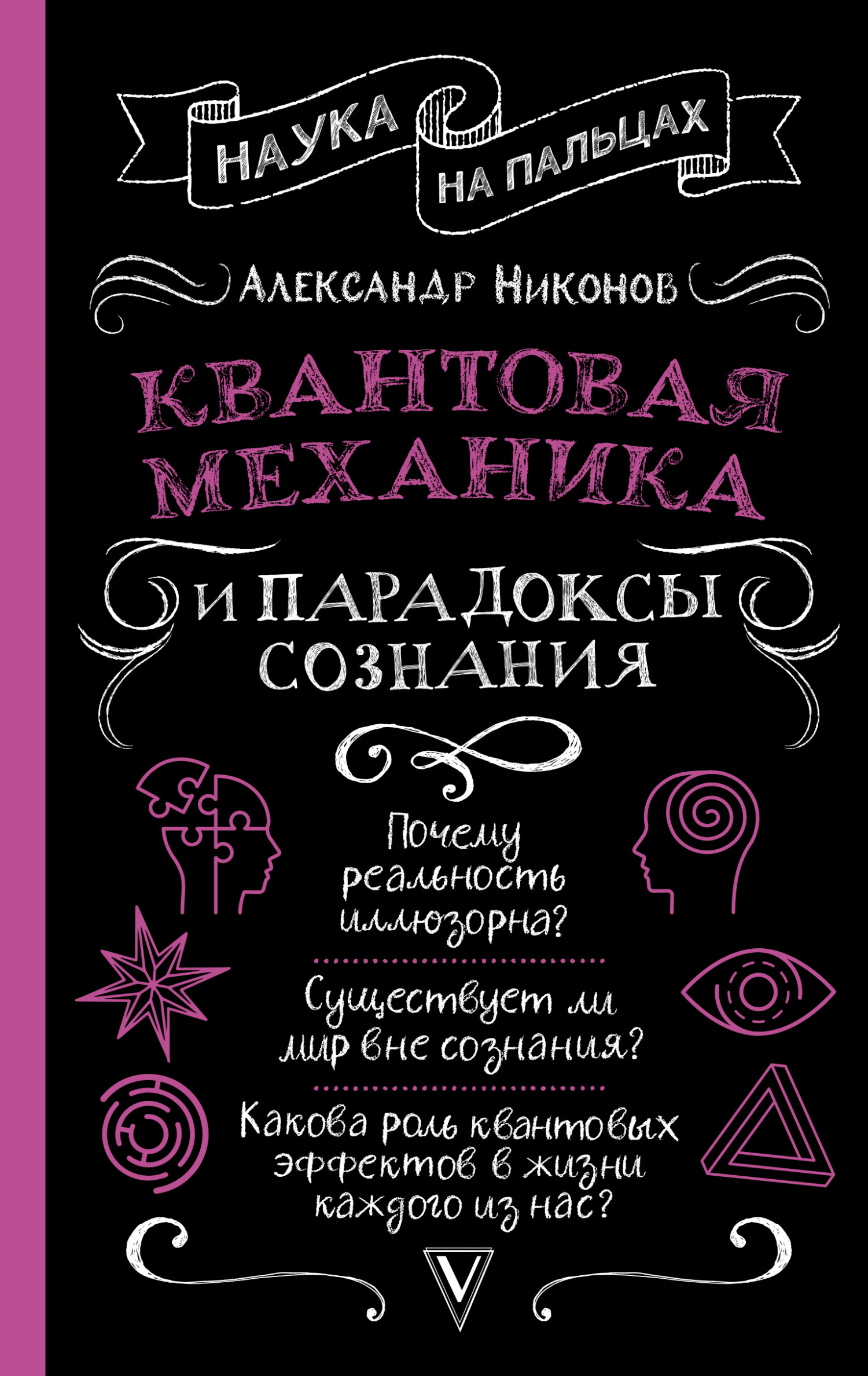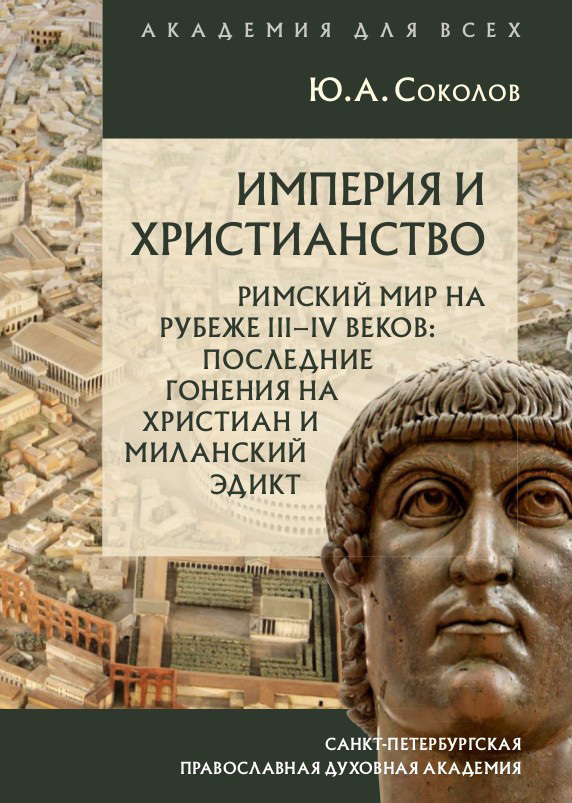Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Главная тема книги – многовековая борьба христианства с чувственной любовью между мужчиной и женщиной, с плотскими удовольствиями. Проповедуя любовь как главную ценность в отношениях между людьми, христианство в то же время стремилось утвердить идеал воздержания и аскетизма, пытаясь изменить природу человека.В книге рассматриваются драматические моменты и перипетии борьбы христианства с эросом: культ девственности и безбрачия, идеалы праведности, телесной и духовной чистоты, скопчество, целибат, монашество, строгие каноны христианского брака.Анализируя итоги этой вековечной борьбы, автор размышляет о судьбе христианства как мировой религии.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вячеслав А. Сорокин»: