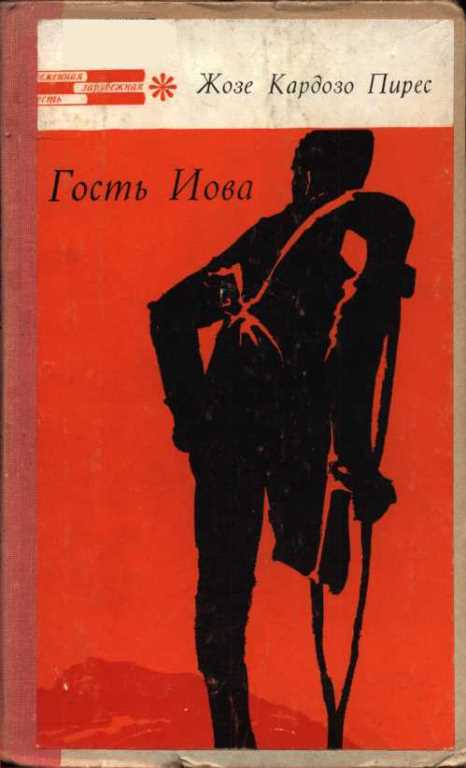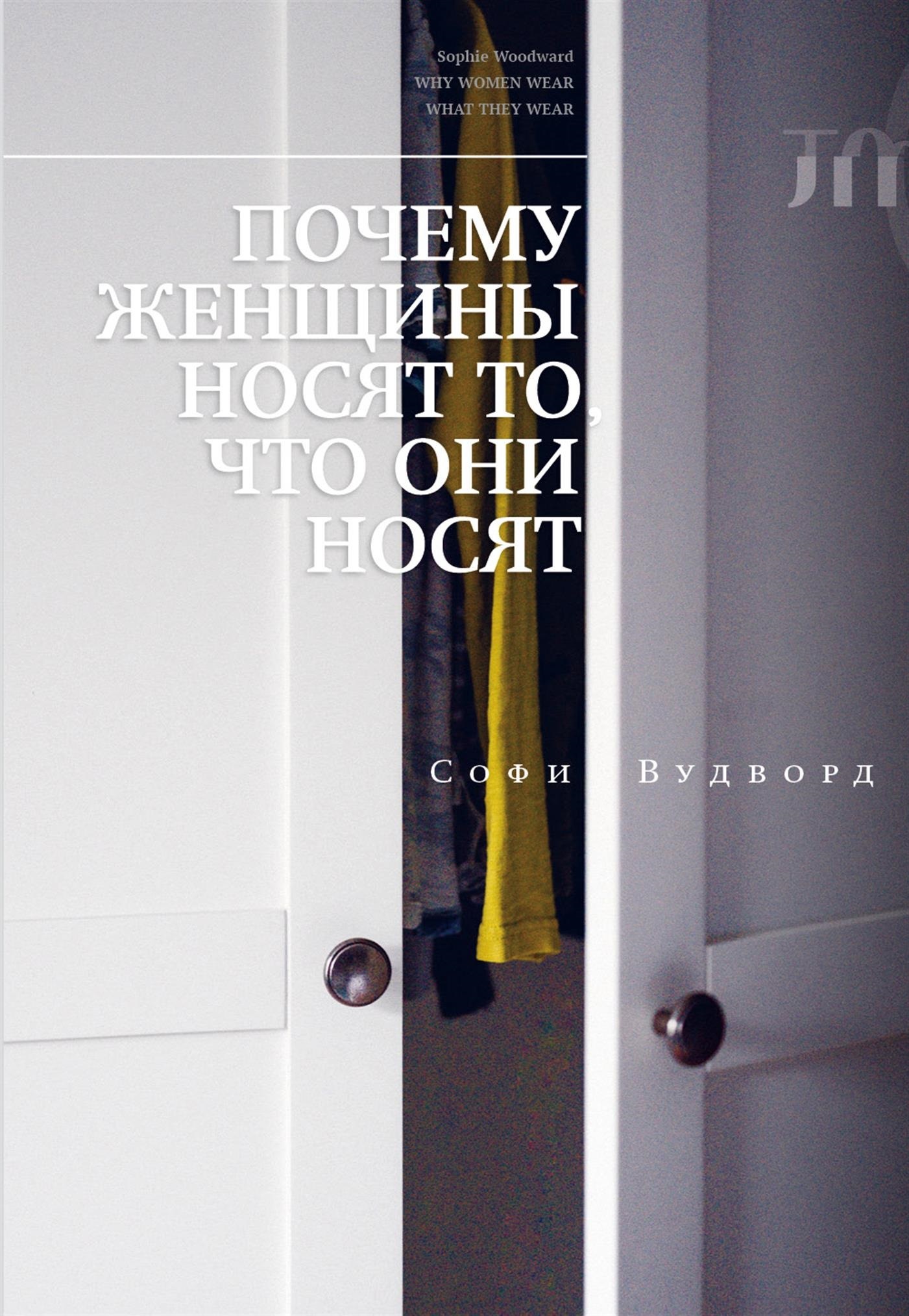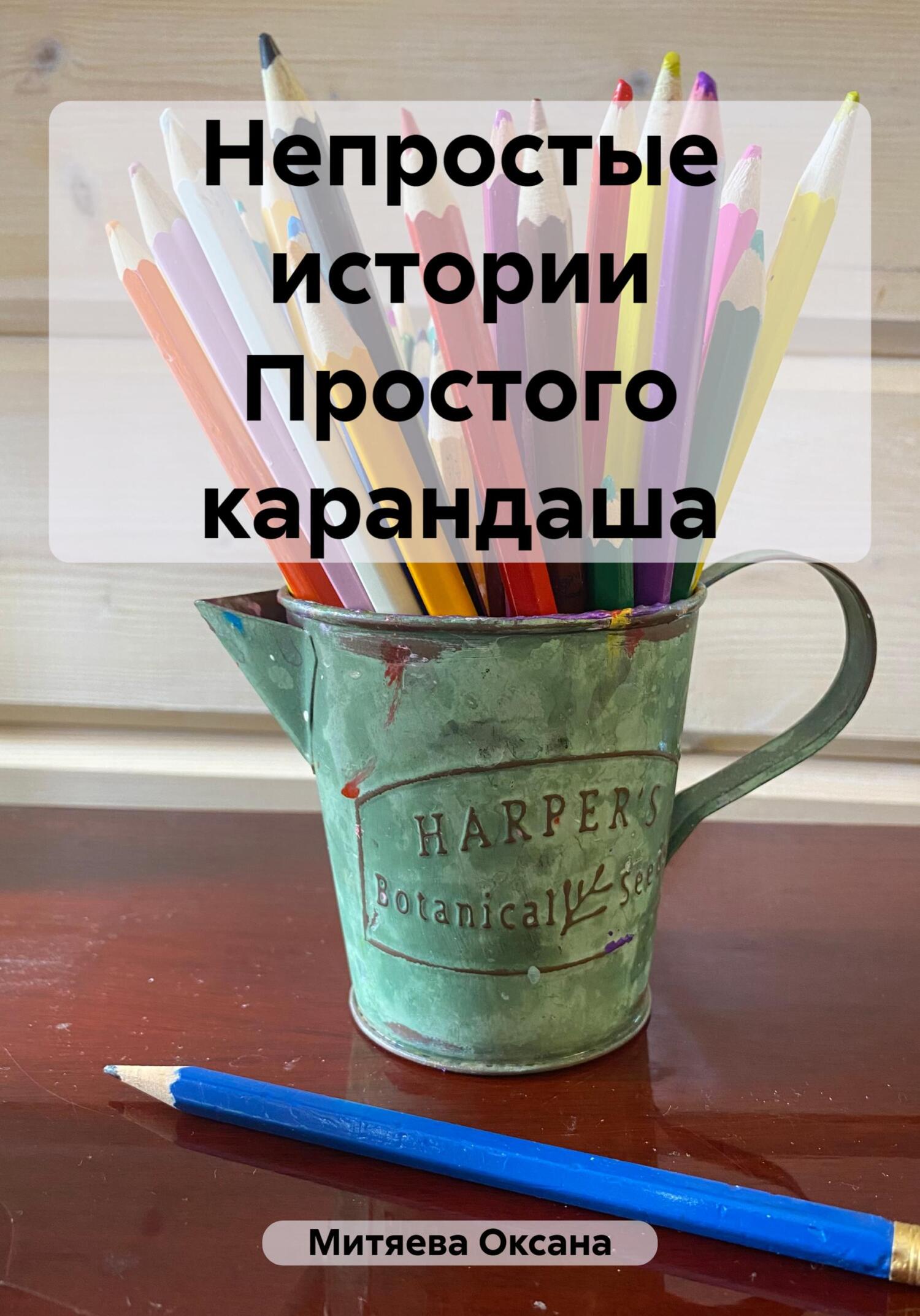Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Тибор Дери (1894–1977) — прозаик, видный представитель венгерской социалистической литературы, широко известный у себя на родине и за ее пределами. На русском языке публиковались его роман «Ответ», рассказы, эссе. Повесть «Милый бо-пэр!..» создавалась писателем в канун своего 80-летия. Серьезные раздумья о жизни и смерти, глубокая искренность и прямота перед лицом своего «я», мужество и проникновенный, прикрытый тонкой самоиронией лиризм — характерные черты этого талантливого произведения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тибор Дери»: