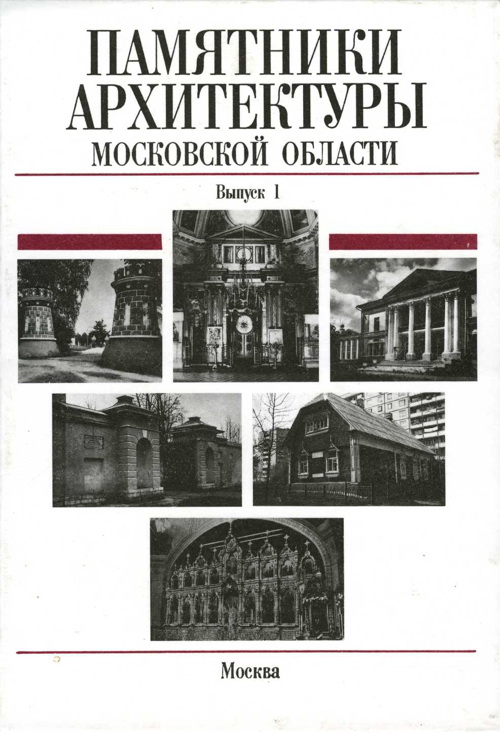Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Имя русской писательницы Софьи Николаевны Шиль (псевдоним Сергей Орловский, 1863 – 1928), известно немногим даже среди специалистов. Часть ее литературного наследия хранилась в архивах и была недавно издана. Неопубликованной осталась последняя рукопись «Сердце Отчизны». О Москве, ее прошлом и настоящем, людях, оставивших след в летописи города, – полные поэзии, любви и горечи короткие эссе, написанные вдали от Москвы в 1920 – 1921 годах, времени, когда казалось, что сама история уже закончилась. Текст, сохранившийся в Норвежской национальной библиотеке в Осло в архиве Олафа Брока, публикуется впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Софья Николаевна Шиль»: