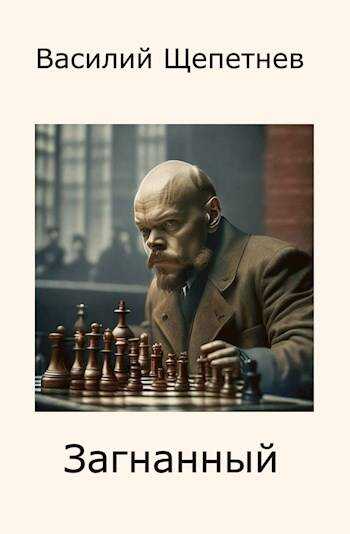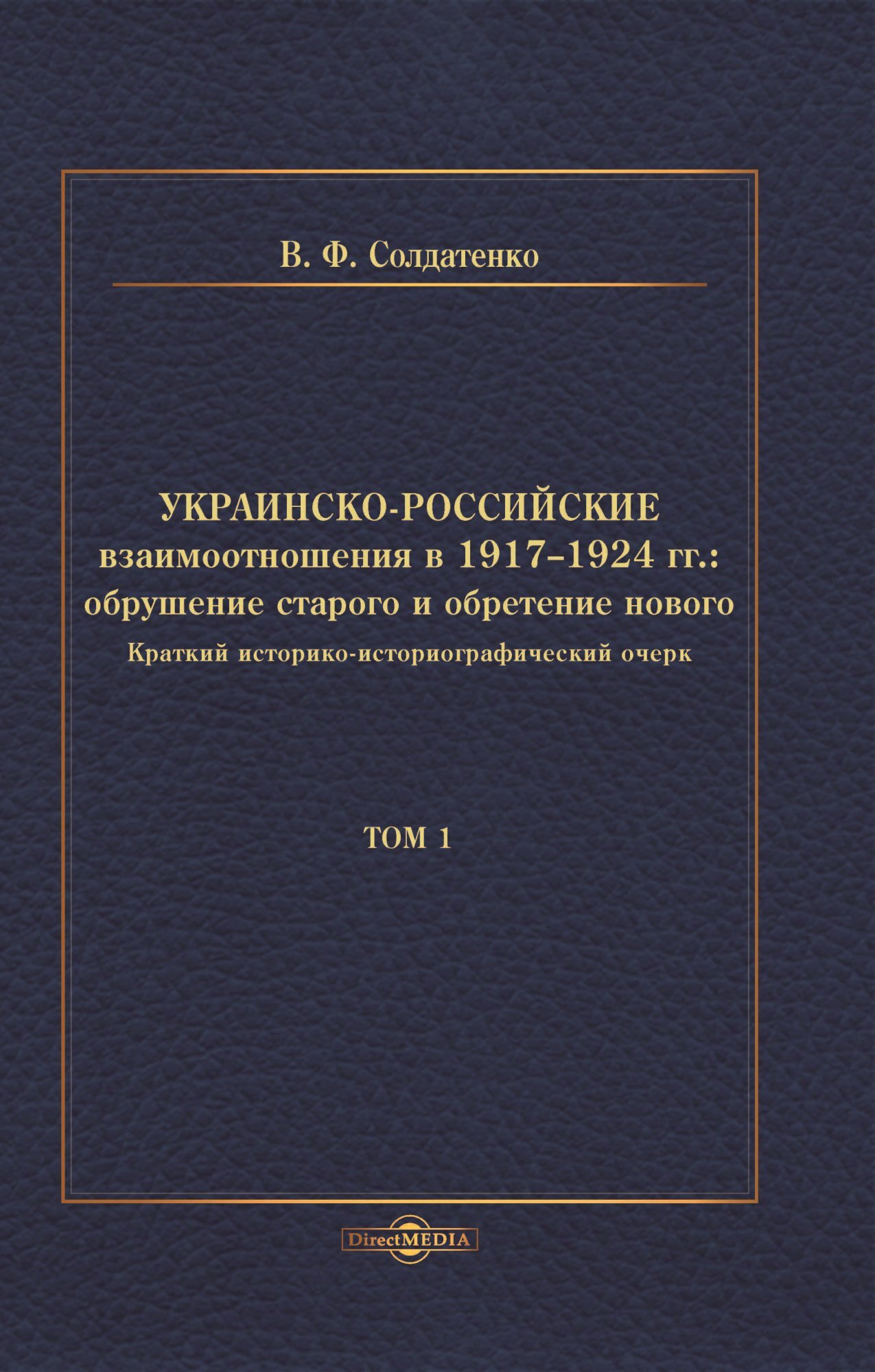Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
"Письмом к съезду", в котором он дезавуировал всех соратников, Ленин фактически подписал себе смертный приговор. Лишь безнадежное, по уверению врачей, состояние здоровья спасало его от расправы. Но. Но в январе 1924 года приглашенный Н.К.Крупской немецкий врач Магель применил изобретенный им аппарат магнито-лучевой терапии для лечения В.И. Ульянова-Ленина. И всё пошло по-другому.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Павлович Щепетнёв»: