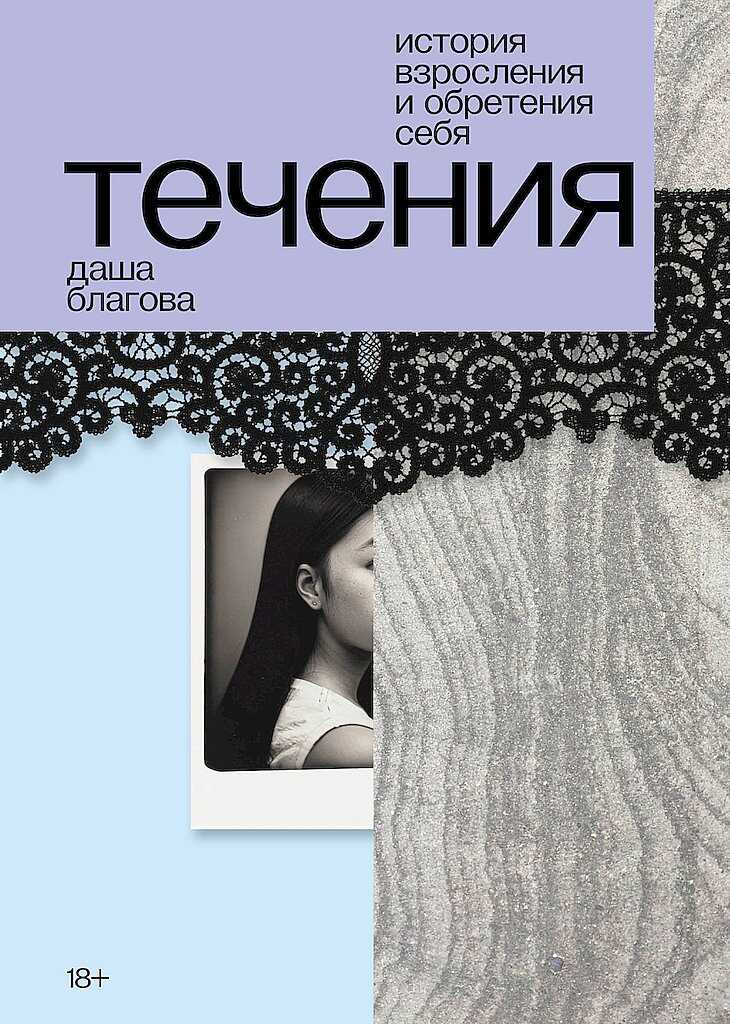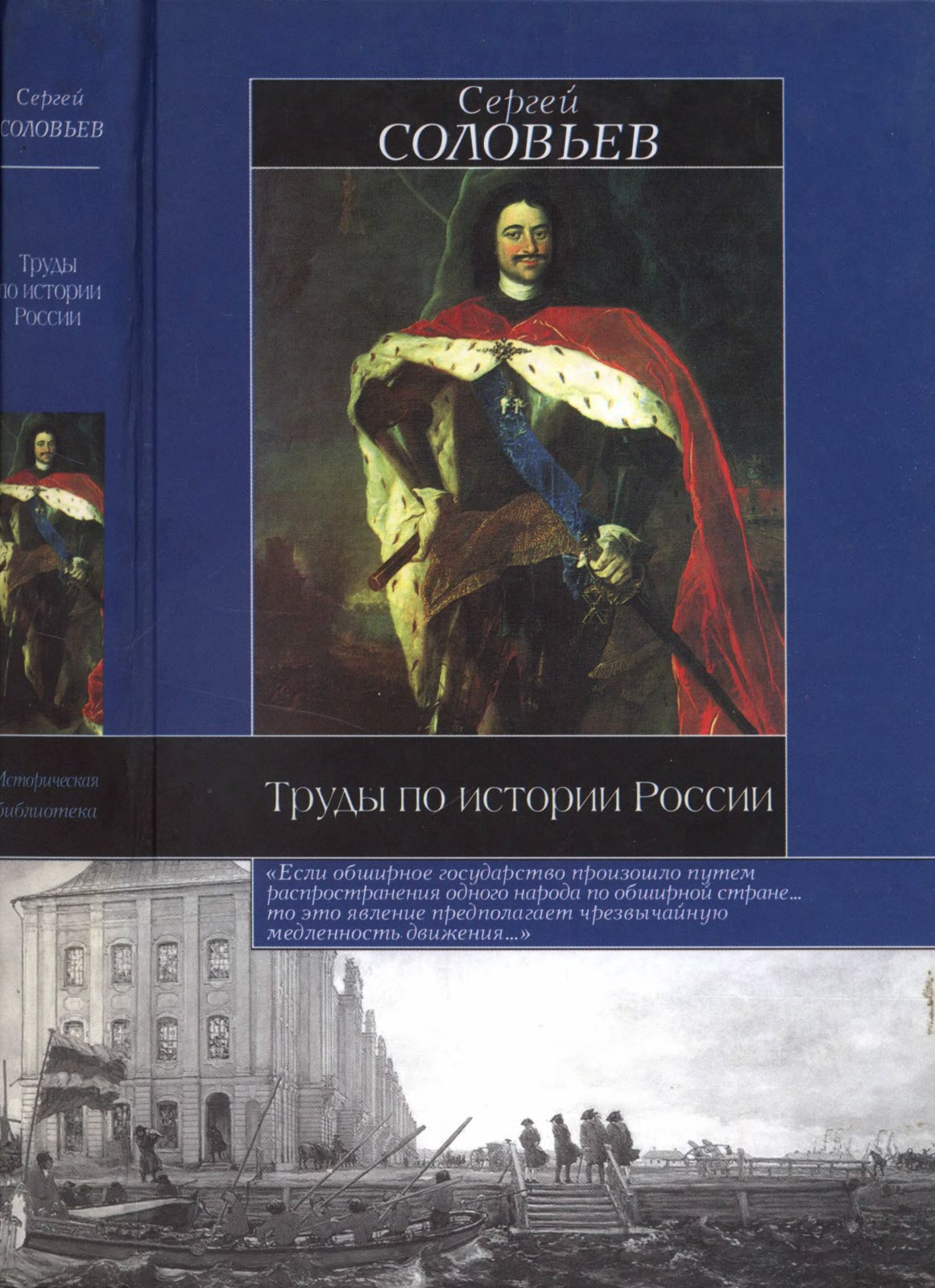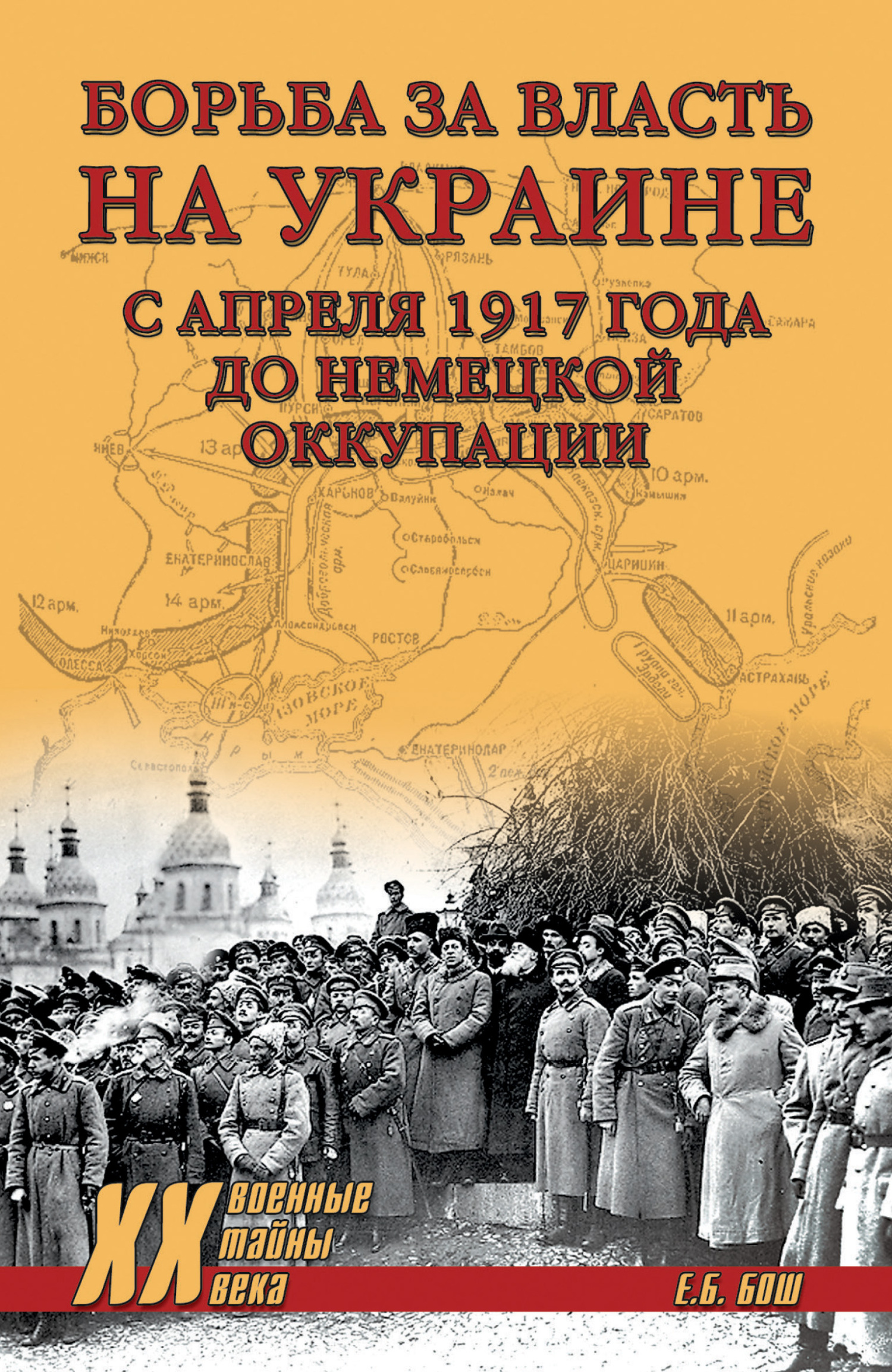Шрифт:
Закладка:
Новый роман Даши Благовой, номинантки премий «Национальный бестселлер» (2022) и «Ясная Поляна» (2023), — это история взросления, поиска и обретения себя. Настя выросла в небольшом южном городе, долго и упорно училась, поступила на журфак МГУ — и теперь пытается встроиться в новую, красивую и интересную, но совсем другую жизнь. Оторвавшись от семьи, она стремится найти свое место, но все больше ощущает себя одинокой, глупой и провинциальной. Дружба с красивой и успешной подругой поначалу кажется спасительной — но оборачивается для нее болезненной зависимостью. В унылых коридорах и тусклых комнатах общежития Настя проживает, кажется, худшие дни своей жизни и все больше погружается в отчаяние и депрессию. Только любовь и поддержка близких, осознание собственной идентичности помогут обрести опору и уверенность, а стремление помочь другим даст надежду на обретение внутреннего смысла.