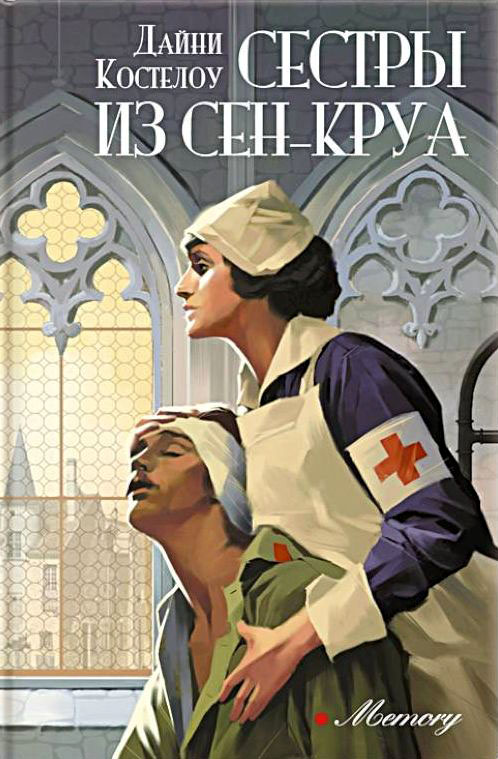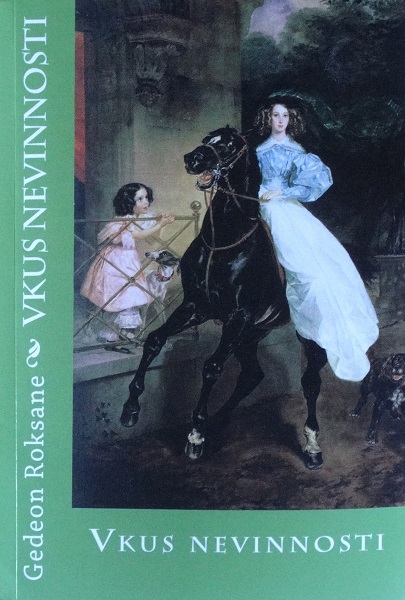Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
1871 год стал трагичным для Парижа и его жителей. Правительственная армия, потерпев поражение в войне с Пруссией, раскололась на два враждующих лагеря, и власть в городе захватили национальные гвардейцы. Семья парижского архитектора Эмиля Сен-Клера возвращается в столицу из провинции и оказывается в эпицентре кровавого противостояния. Убита преданная няня Мари-Жанна, похищена средняя дочь, одиннадцатилетняя Элен, а два сына-офицера оказались по разные стороны баррикад… Суровая военная история, где нужно и защищаться, и убивать, отстаивать свободу, и не терять мужества, даже если ты всего лишь подросток.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дайни Костелоу»: