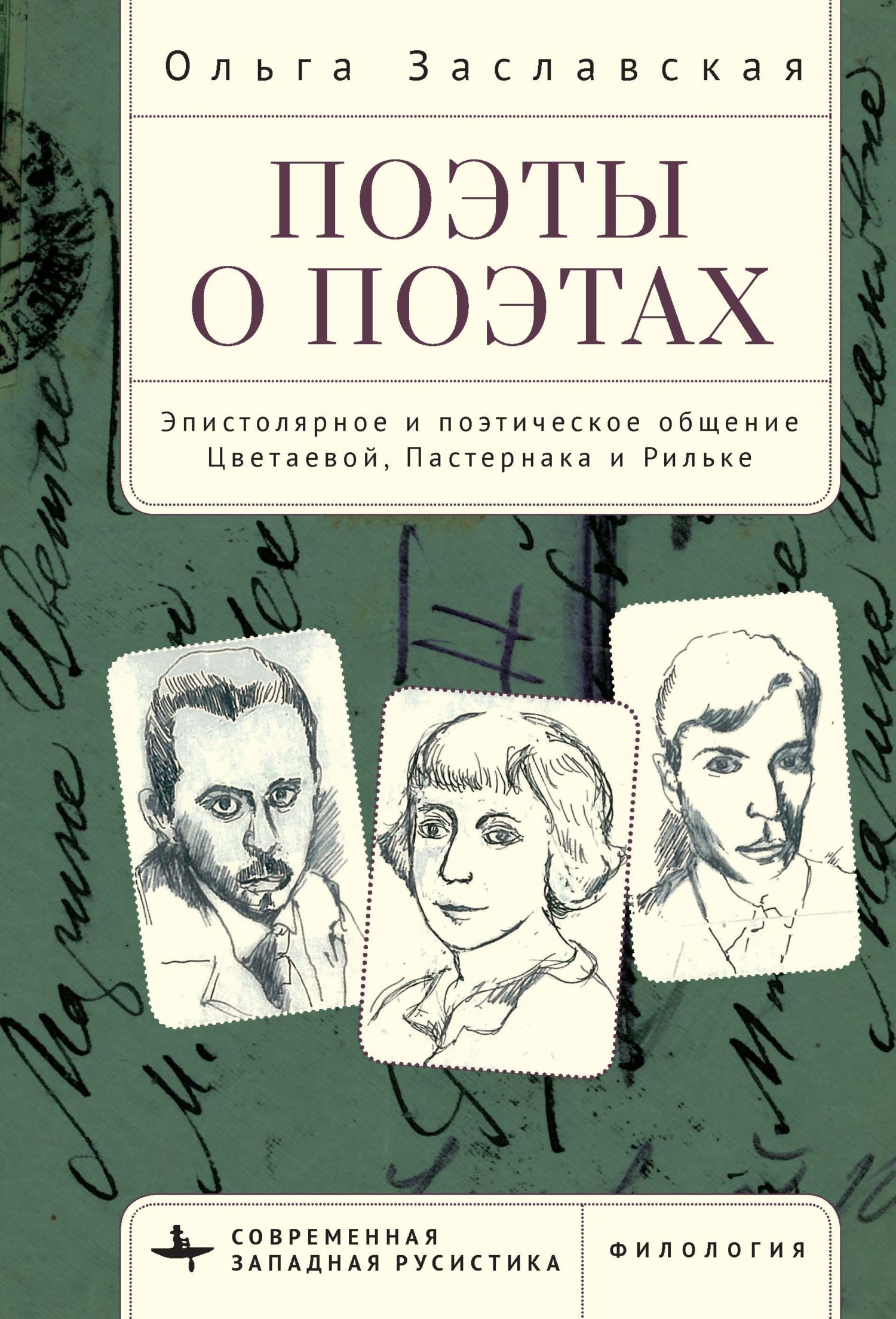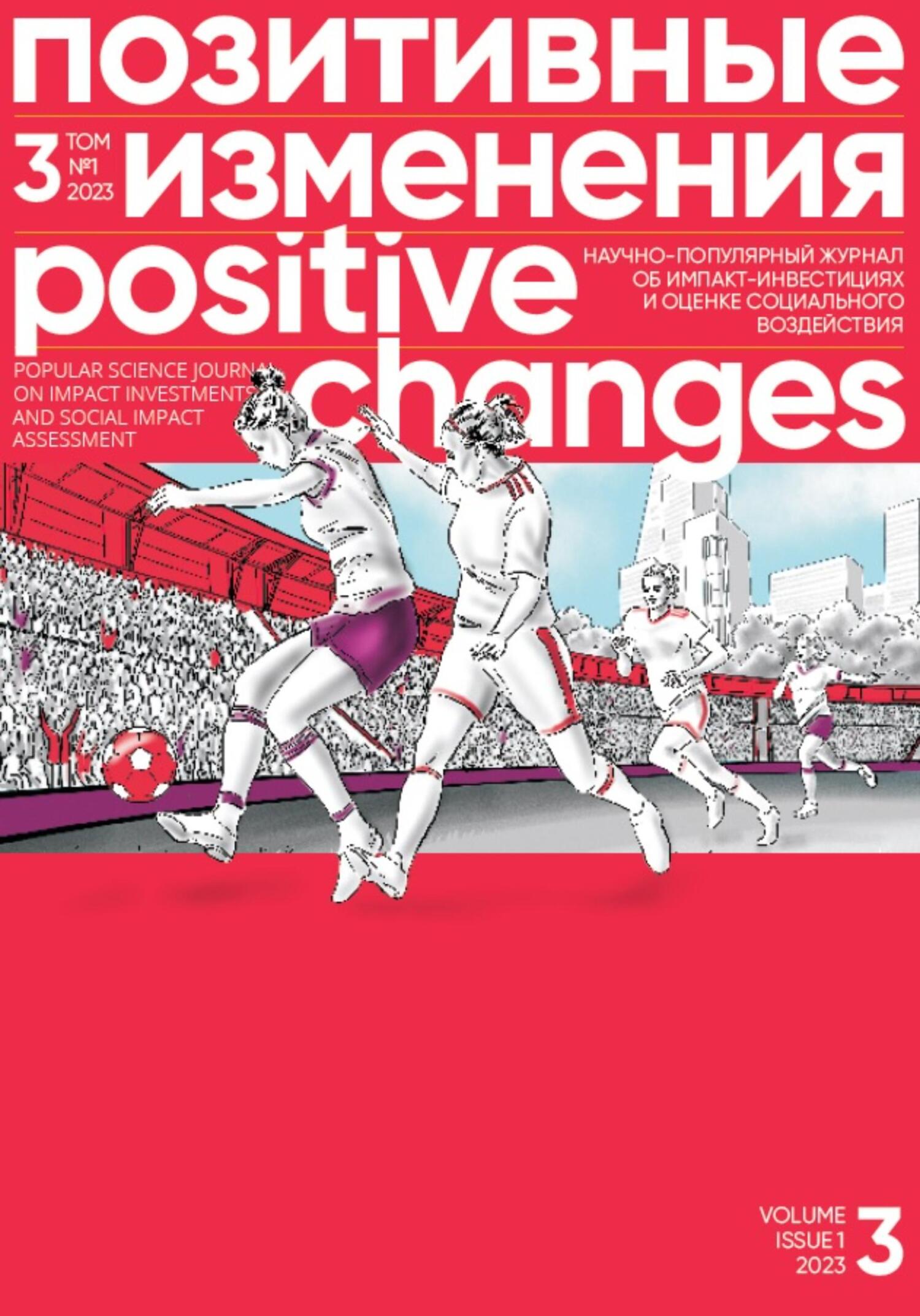Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга Ольги Заславской посвящена сложному взаимодействию читательского и творческого опытов поэтов «великого треугольника» (по выражению Иосифа Бродского) – Цветаевой, Пастернака и Рильке. Заславская рассматривает творчество этих авторов в период между 1926-м годом, годом их тройственной переписки, и 1930-м, годом публикации «Охранной грамоты», показывая, как возникала взаимозависимость поэтических образов, как поэтические монологи превращались в посвящения и литературные диалоги. Также в книге уделяется внимание взаимодействию литературных реалий и культурных мифов – прежде всего, мифа Пушкина, который породил и поддержал один из интереснейших поэтических разговоров XX столетия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Заславская»: