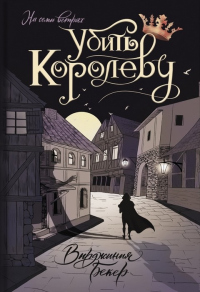Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Секретная миссия, возложенная на отца юной Катерины Арундел, заканчивается его гибелью. Девушка дает себе слово отомстить врагам. С этого момента начинаются ее рискованные приключения, конечная цель которых — убить королеву Англии Елизавету I. Шекспировские времена и не менее безумные страсти под пером Вирджинии Бекер превращаются в захватывающий шпионский триллер. Кто же выйдет победителем из вечной борьбы между любовью и долгом?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вирджиния Бекер»: