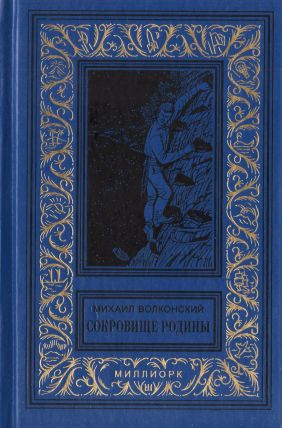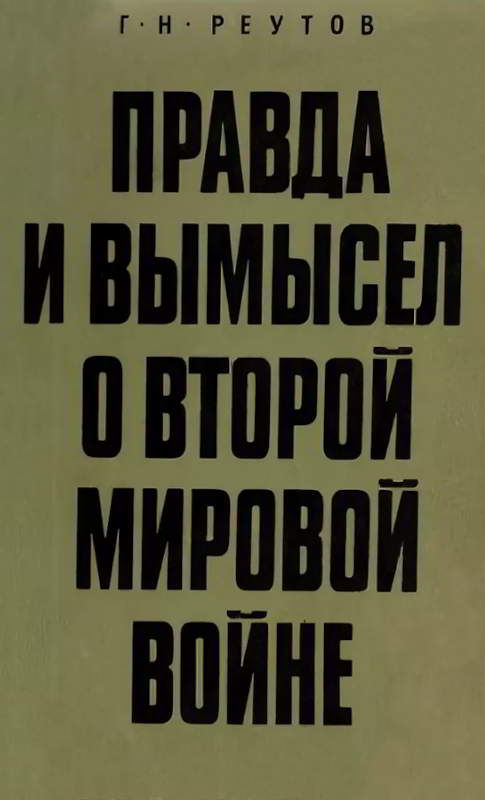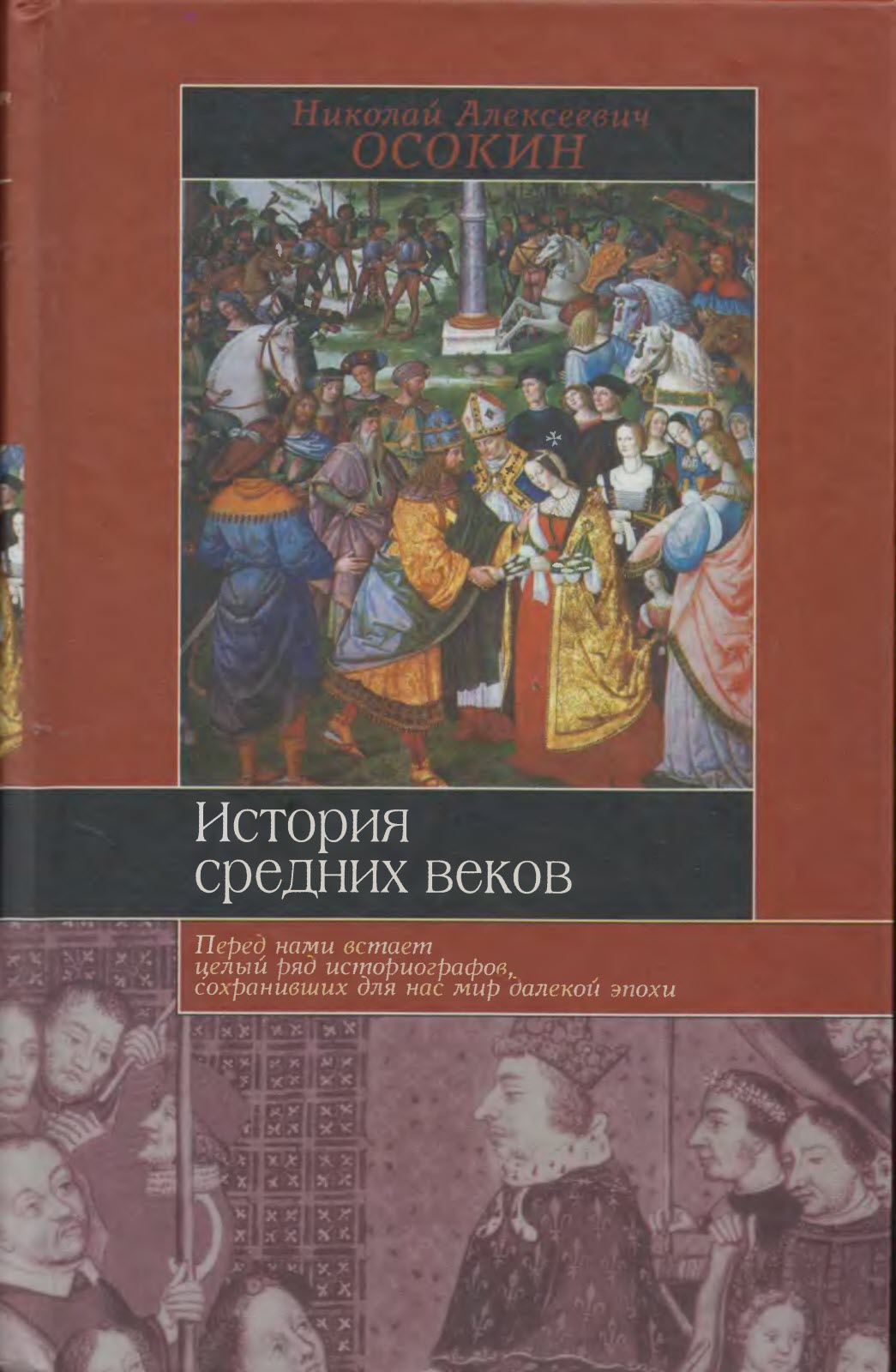Шрифт:
Закладка:
Сборник составили произведения Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), опубликованные более столетия назад в журналах и впервые выпущенные книжным изданием. Главные герои романов «Капитан „Дедалуса“» (1902) и «Сокровище Родины» (1903), отправляясь в далёкое морское путешествие, и помыслить не могли, какие испытания выпадут на их долю, сколько смертельных опасностей придётся им преодолеть, прежде чем они вернутся домой… Действие повести «Ёрш и Пыж» (1905) разворачивается в одном из губернских городов Российской империи, который становится ареной загадочных событий, связанных с борьбой за миллионное наследство… М. Н. Волконский, будучи хорошо известным автором исторических произведений, впервые представлен здесь как один из пионеров Русского приключенческого романа. Для среднего и старшего возраста. Знак информационной продукции 12+