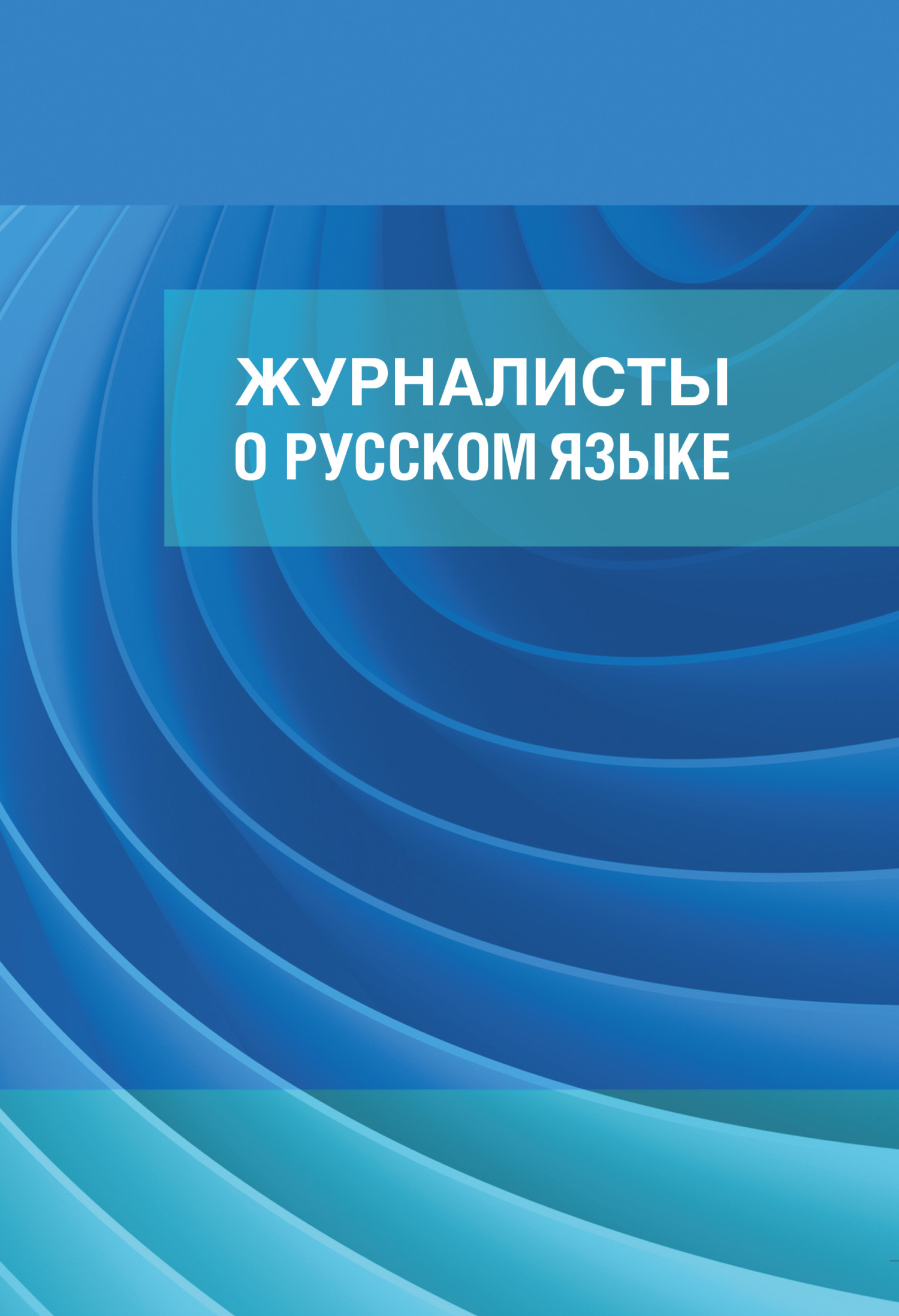Шрифт:
Закладка:
В 1920 году Ганнибал приезжает в Россию и влюбляется в русскую культуру и циркачку Вариньку. Он увозит ее в Данию, строит для нее дом и мечтает слушать с ней Чайковского и Прокофьева. Но Варинька не любит музыку, да и общий язык они как-то не находят, ведь в ее жизни должен был быть слон, а получила она бегемота, который съел ее возлюбленного (но это совсем другая история).Дочь Ганнибала и Вариньки, по слухам, обладающая экстрасенсорными способностями, влюбляется в укротителя голубей! А его внуки, близнецы, выбирают творческую профессию: Эстер становится художником, а Ольга – оперной дивой. Старшая же сестра близнецов Филиппа озабочена тем, чтобы стать первой женщиной-космонавтом, прежде чем болезнь унесет ее жизнь.«Песнь песней на улице Палермской» – это жизнеутверждающий роман о семье, любви и смелости. Смелости, пережив потерю, все равно дать себе шанс на новое счастье.