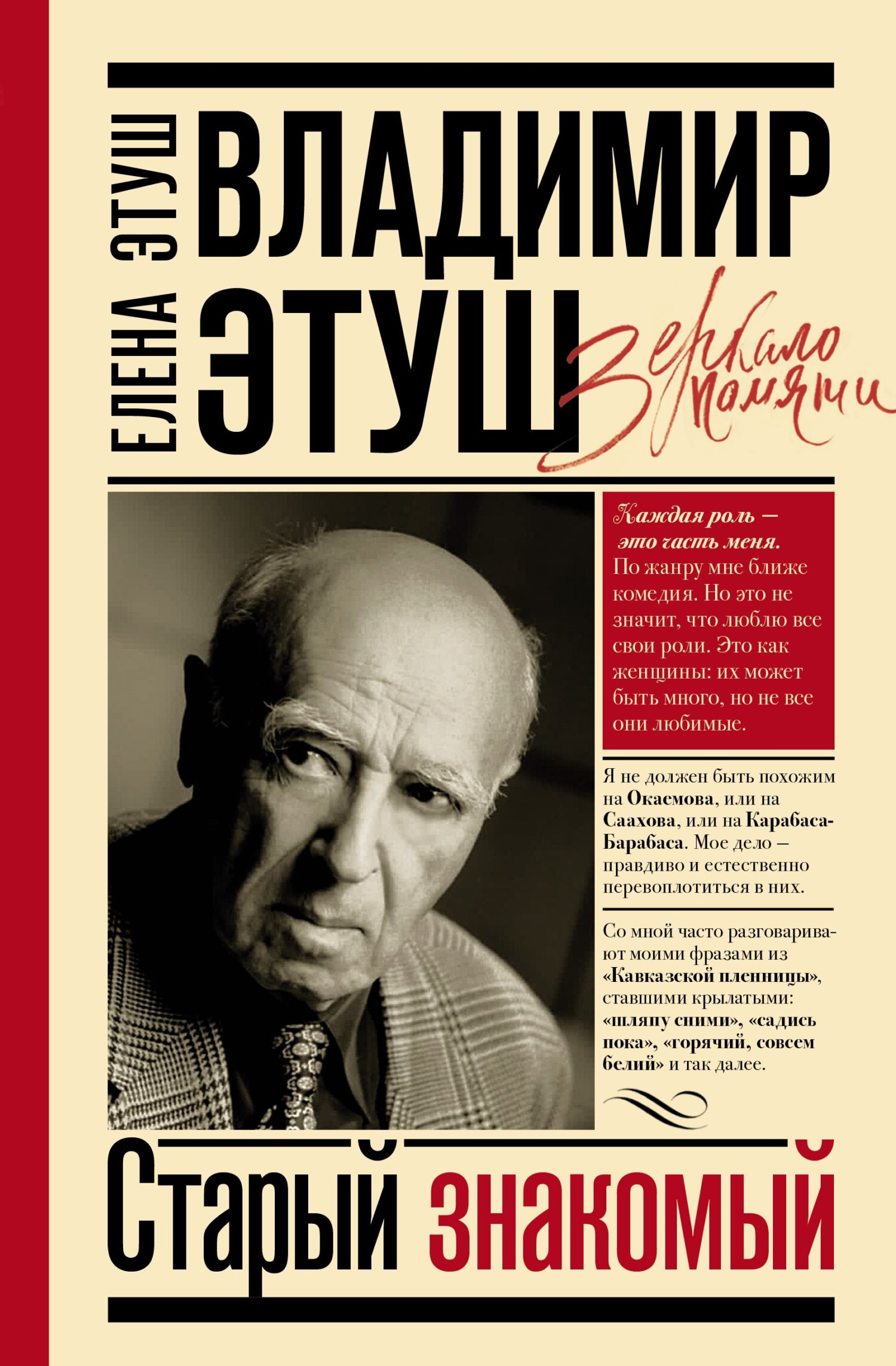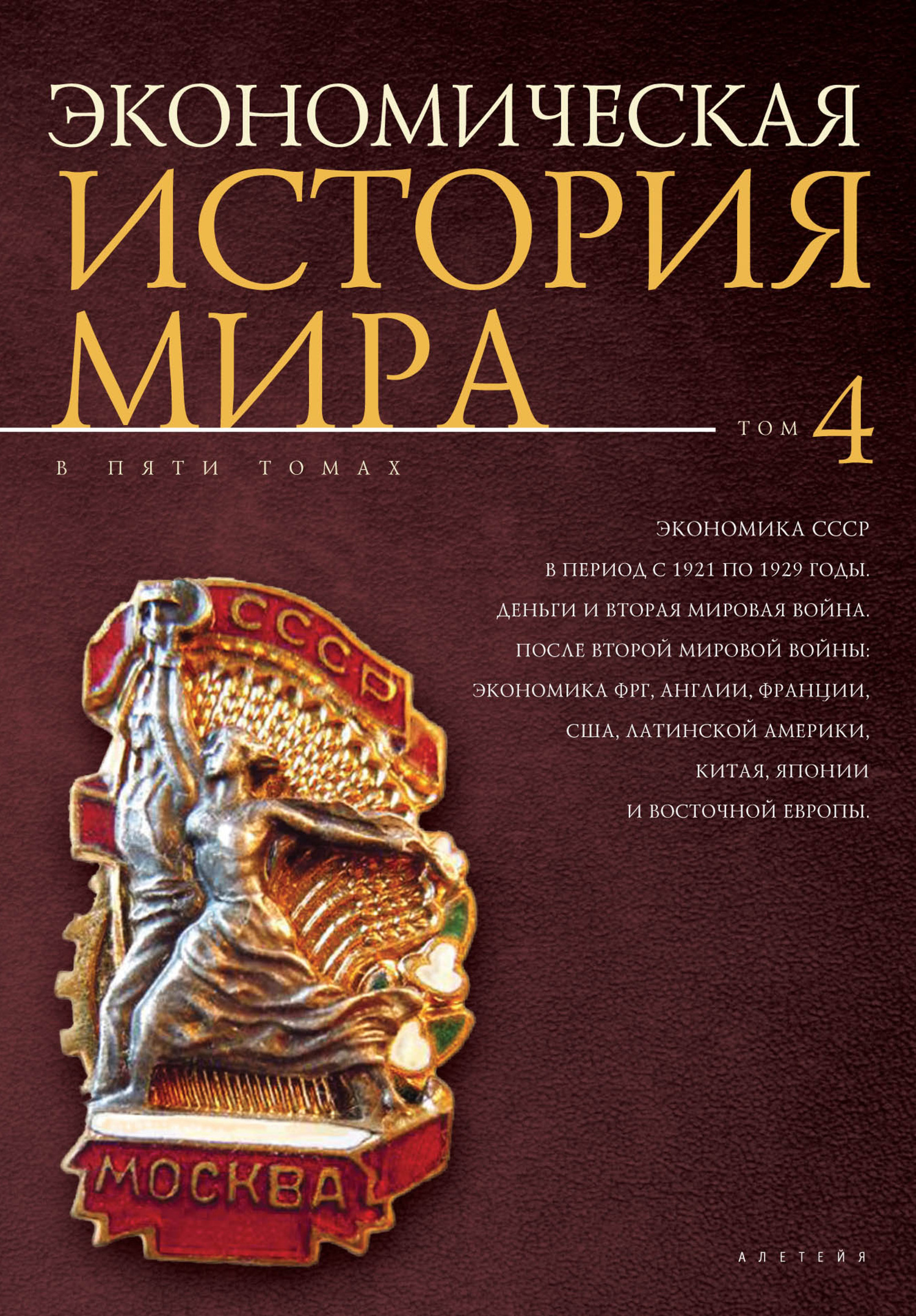Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этой книге собраны размышления Владимира Этуша о своей жизни, войне, театре, кино, а также воспоминания его коллег и учеников: у каждого из них тоже есть своя история о нем. Многое из этого увидело свет впервые. Наконец полностью опубликован фронтовой дневник Владимира Абрамовича, один из ярких документов эпохи, рассказывающий о Великой Отечественной войне. Актер, фронтовик, педагог… вот такой он, наш старый знакомый.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Евгеньевна Этуш»: