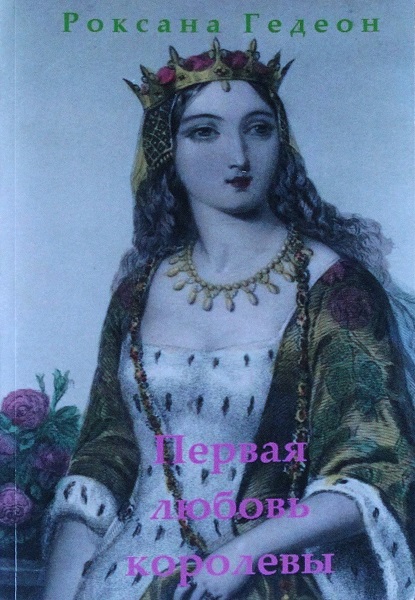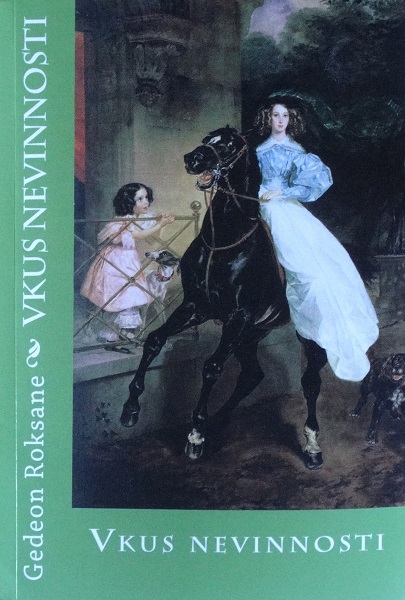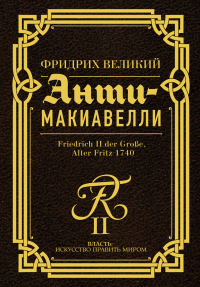Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
…Франция, 1834 год. Целая пропасть отделяет теперешнюю Адель Эрио, звезду парижского полусвета и фаворитку двух принцев крови, от невинной и наивной девочки, которой она была, когда-то. Ее дом утопает в роскоши, она блистает нарядами и драгоценностями, устраивает приемы, на которые съезжаются чуть ли не все французские вельможи. Мужчины отдают за ночь с мадемуазель Эрио сто тысяч франков. Карьера ее головокружительна, но… что поделать с душой? И с любовью к Эдуарду, которую никак не вырвать из сердца? Адель знает об его намечающейся помолвке и пытается помешать этому событию. Любой ценой. Даже ценой свободы возлюбленного…
В оформлении книги использован рисунок А. Шалона (Англия, XIX в.)
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роксана Михайловна Гедеон»: