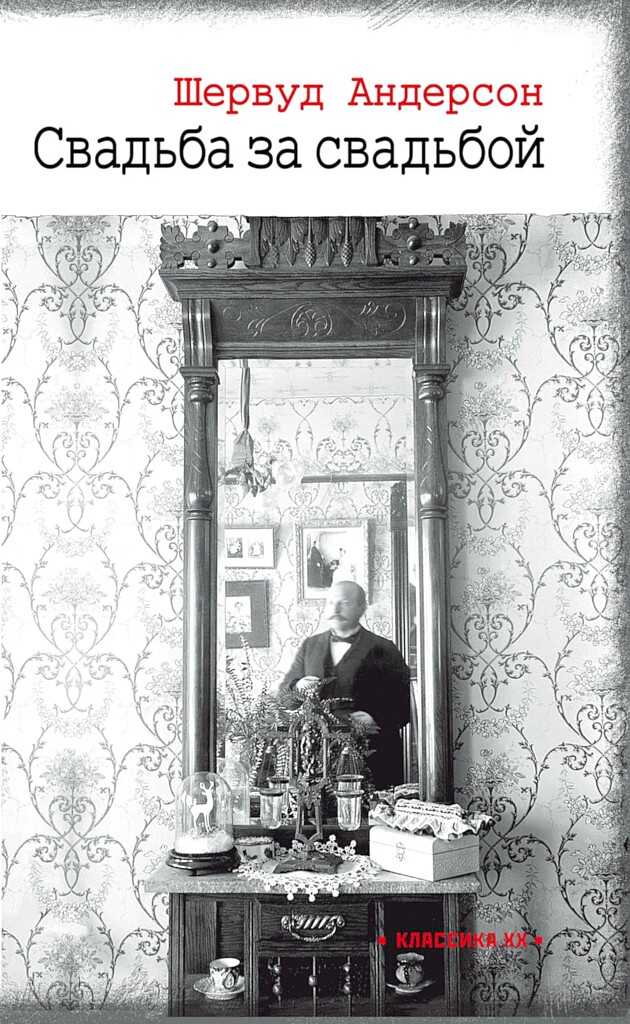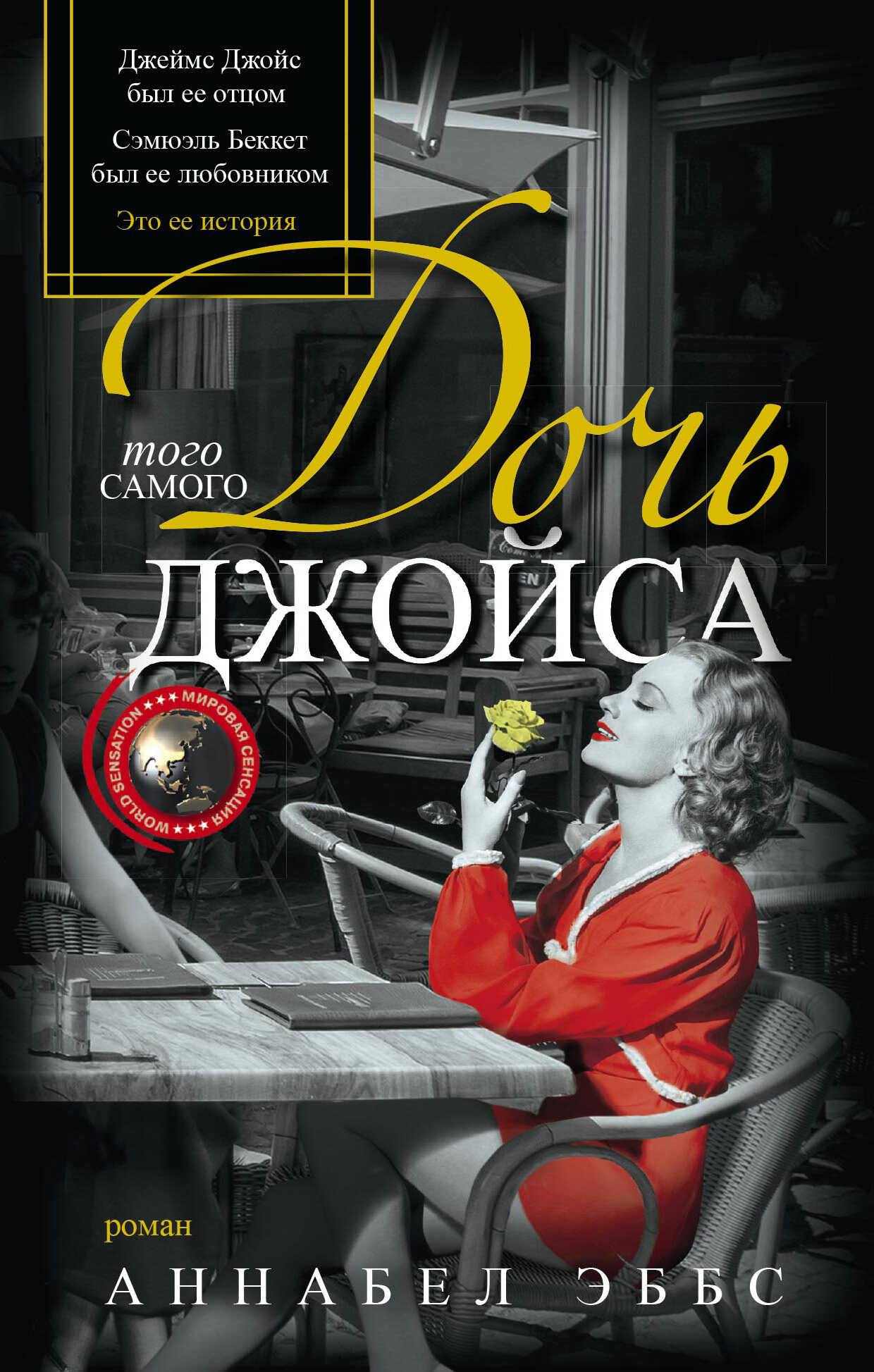Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Шервуд Андерсон (1876–1941) оказал заметное влияние на самых известных американских писателей XX века, в том числе Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Джона Стейнбека, Эрнеста Хемингуэя. Его проза насыщена пронзительным психологизмом, что отличает и роман «Свадьба за свадьбой». Заурядная на первый взгляд интрижка между преуспевающим женатым фабрикантом и его секретаршей приводит к трагедии и становится для героев поводом погрузиться в тайную жизнь собственного сознания, полную как низменных порывов, так и подлинной красоты. Шервуд Андерсон не только предвосхищает войну поколения шестидесятых с пуританской моралью, но и создает удивительно смелую и тонкую картину духовного перелома, приводящего человека на грань безумия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Шервуд Андерсон»: