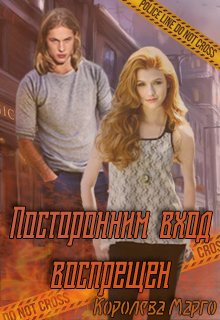Шрифт:
Закладка:
Книга классика британской музыкальной журналистики Иэна Пэнмана «Изгиб дорожки – путь домой» – это сборник виртуозных эссе о ряде фигур, оказавших влияние на историю поп-музыки: Чарли Паркере, Джеймсе Брауне, Фрэнке Синатре, Принсе и др. Кажущийся сначала произвольным и фрагментарным выбор при более пристальном рассмотрении позволяет обнаружить ключевую тему сборника – рецепцию и место афроамериканской традиции в рамках западноевропейской популярной культуры. Вынесенная в заглавие строка из стихотворения Уистена Хью Одена подсказывает лейтмотив этих текстов – поиск дома, который существует как неуловимое эхо и отзвук любимых композиций. Эссеистика Пэнмана ностальгична в буквальном смысле этого слова: именно бездомность, понятая через призму быта, гендера, искусства, социума, политики, истории и религии, объединяет всех героев его книги. Тем не менее письмо Пэнмана далеко от заунывных ламентаций по безвозвратно ушедшей эпохе. Британский критик бескомпромиссно препарирует не только биографии и творчество культовых музыкантов, но и механизмы западноевропейской поп-культуры как таковой. В результате перед нами одна из самых ярких книг о любви: любви, полной противоречий и изъянов, любви к поп-музыке – возможно, главному событию в истории культуры второй половины XX века.