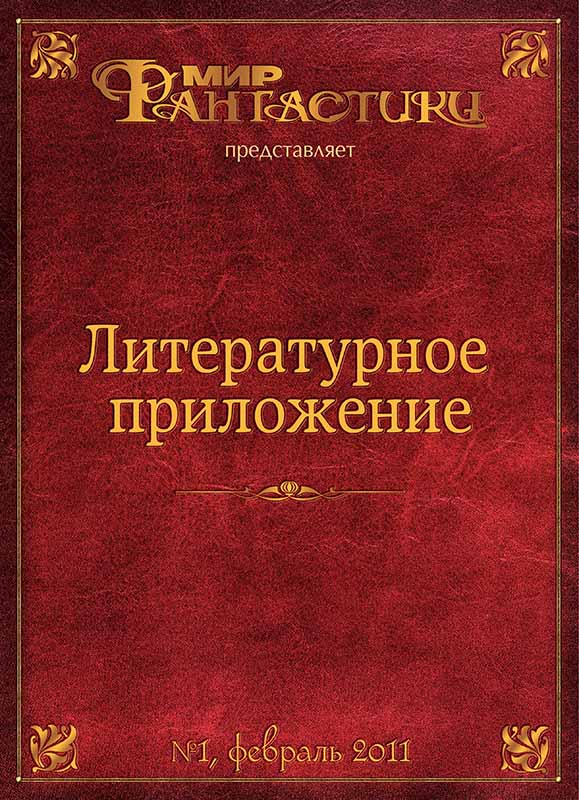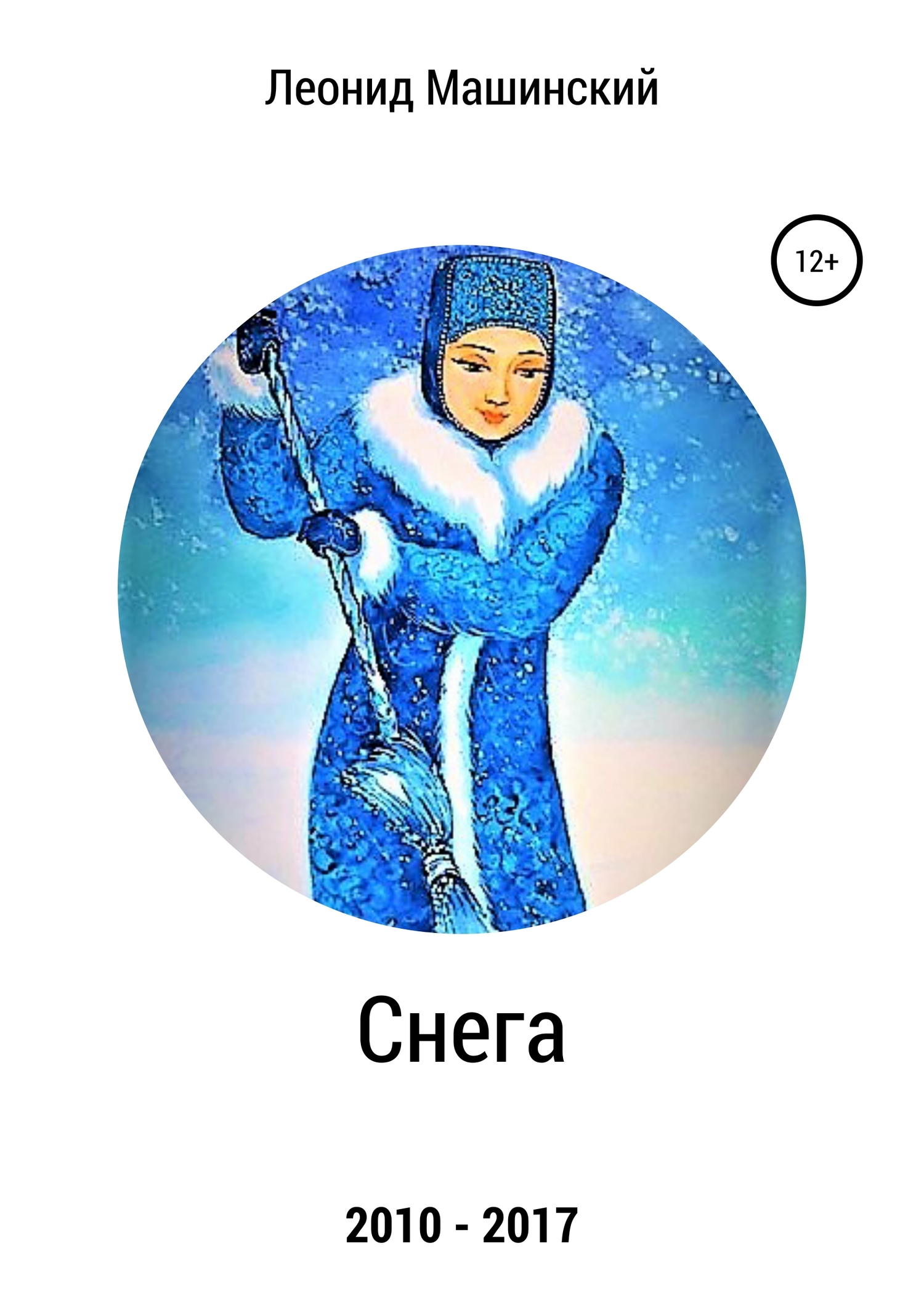Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Многие рассказы Василия Афонина проникнуты авторской болью и грустью по уходящему уже навсегда деревенскому быту, тому укладу жизни, который не способен противостоять наступающей цивилизации. Это грустная лирическая нота, искренняя боль за человека, уже давно завоевала сердца читателей, знающих и любящих творчество этого своеобразного писателя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Егорович Афонин»: