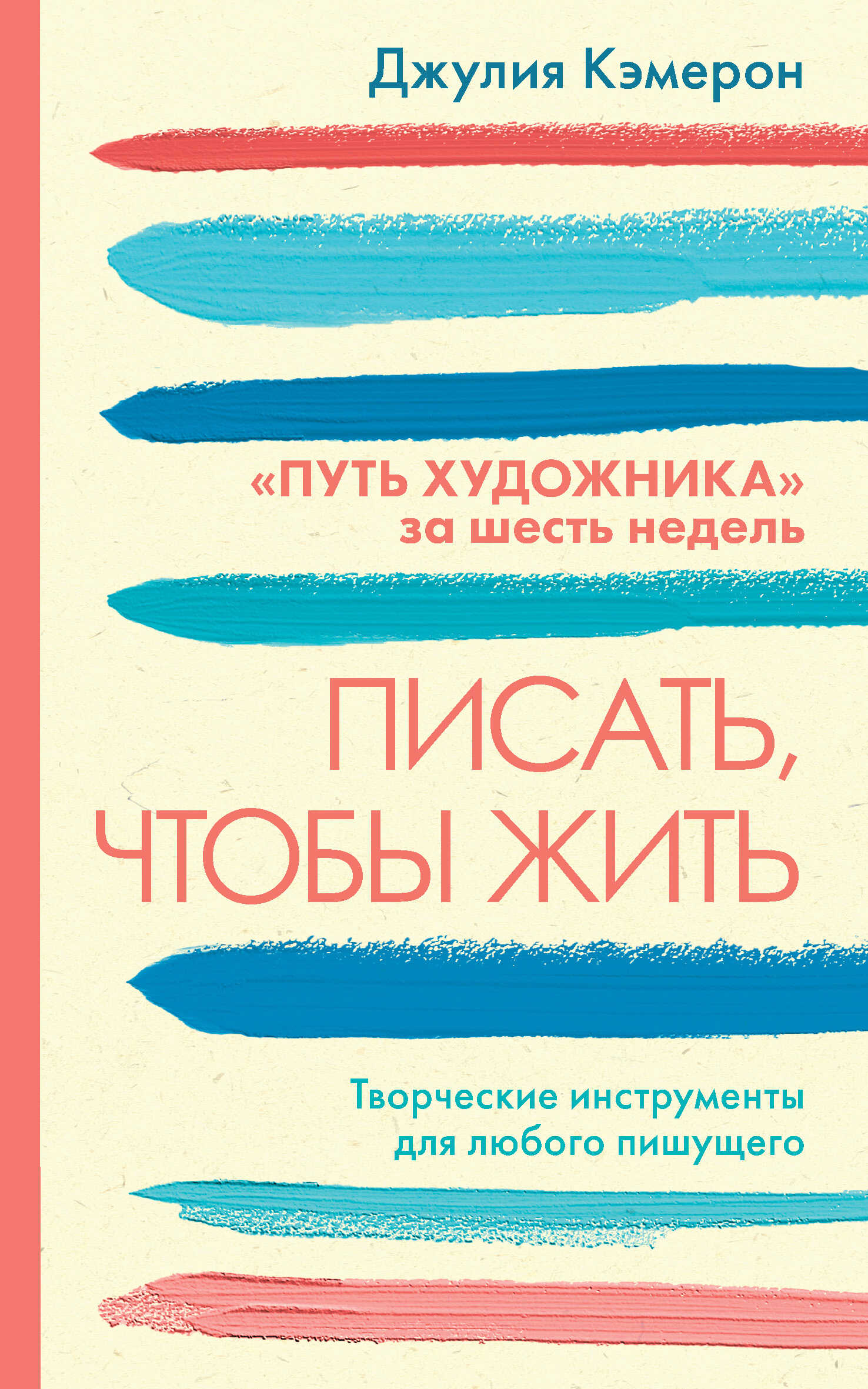Шрифт:
Закладка:
Собрание стихотворений поэта Виктора Борисовича Кривулина (1944–2001) включает наиболее значительные произведения, созданные на протяжении двух десятилетий его литературной работы. Главным внешним условием творческой жизни Кривулина, как и многих других литераторов его поколения и круга, в советское время была принципиальная невозможность свободного выхода к широкому читателю, что послужило толчком к формированию альтернативного культурного пространства, получившего название неофициальной культуры, одним из лидеров которой Кривулин являлся. Но внешние ограничения давали в то же время предельную внутреннюю свободу и способствовали творческой независимости. Со временем стихи и проза Кривулина не только не потеряли актуальности, но обрели новое звучание и новые смыслы.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.